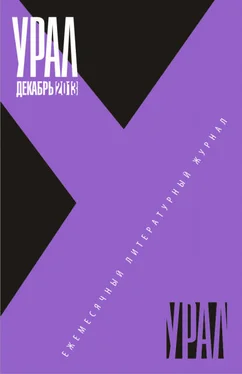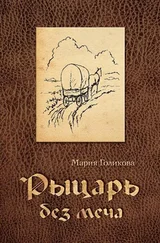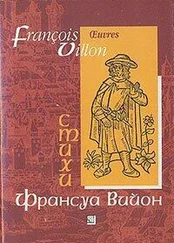До случая с Вийоном Жан-Мишель, как все люди своего времени, искренне верил молве — он ещё ни разу не сталкивался с ситуацией, когда молва оказалась бы не права. Молва считалась лучшим судьёй. Если кого-то, к примеру, считали вором, он обычно вором и оказывался, и рано или поздно его настигало наказание, — а потом на улицах Парижа увлечённо обсуждали особенности его казни, последние слова, мужество или трусость… Если в квартал, где все друг друга знали, вдруг забредал чужак и задавал вопросы, потому что не мог самостоятельно найти нужный дом, то люди сразу подозревали этого чужака в недобрых намерениях, держали кинжалы наготове и внимательнее смотрели за своими вещами. Всякий, о ком пошла дурная слава, считался в обществе таким же чужаком, и люди были от души благодарны молве за своевременное предупреждение и считали своим долгом распространить её и предупредить других. Большинство, не задумываясь, ставило собственную безопасность выше милосердия: главным было сохранить правильный порядок вещей.
Жан-Мишель привык чтить такое устройство мира. Для него само собою разумелось, что мир устроен хорошо и верно, и всё, что требуется от человека, — не нарушать его устройство: соблюдать законы, предписанные церковью и государством, чтить традиции, соответствовать своему месту в жизни и осуждать тех, кто пытается занять чужое. Юношам полагалось учиться, веселиться и наслаждаться молодостью, старикам — печалиться и ждать скорой смерти, богатым — демонстрировать власть, а бедным — почитать знатных и богатых и подчиняться им без ропота; человеку среднего достатка не приличествовало одеваться дорого, чтобы выглядеть богаче, чем он есть, — это означало бы не только гордыню, но и попытку обмануть других, показаться им тем, кем ты не являешься на самом деле, то есть опять-таки нарушить порядок вещей… Этот порядок был незыблем, как смена дня и ночи, как смена времён года, как математически точный, но непостижимый человеческим умом путь небесных светил. В псалме пелось: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознаёт это». Устройство общества было принято считать таким же правильным и дивным, как устройство природы и человека, и молва давно сделалась его самым верным слугой.
Поэзии в этом мире тоже было отведено своё место. Точнее всех его определил Эсташ Дешан, назвав стихи «la musique naturelle» — «естественной музыкой». Музыка воплощала в себе божественный порядок и гармонию и таким образом облагораживала и украшала человеческую жизнь. Стихи должны были делать то же самое: через точность рифм, благородство формы и содержания демонстрировать красоту миропорядка и пробуждать в человеческих душах восхищение этой красотой.
Пока Жан-Мишель не познакомился со стихами Вийона, он полагал, что всё это так и есть и должно быть так. А когда он попытался встроить Вийона в привычный миропорядок, у него не получилось. Да, на первый взгляд стихи мэтра Франсуа полностью соответствовали канону, их форма была безупречна, — но что-то мешало назвать их «естественной музыкой», восхваляющей и укрепляющей незыблемое положение вещей. Напротив, они вызывали беспокойство, задавали душе трудные вопросы, погружали её в сомнения, пробуждали в ней чувства, доселе дремавшие под слоем правил и запретов…
Случается, что толпа встречает громкими приветственными криками казнь какого-нибудь бродяги, вора или буяна — а он до последнего уверяет, что невиновен. И в душу поневоле закрадывается сомнение, которое мешает радоваться восстановлению справедливости. А что, если он и правда невиновен? Тогда получится, что никакого порядка нет, что правосудие ложно, а люди — злы? История знает много примеров жестокого и неправедного суда, и первый из них — распятие, на которое каждый парижанин постоянно смотрит в церкви…
Перед Жаном-Мишелем словно бы оказались две чаши весов: на одной лежало всё, к чему он привык, что хорошо знал, чему верил. А на другой — вопросы, которые давно его волновали, сомнения, смутные, но настойчивые, и стихи — невероятно живые, талантливые и свободные, несмотря на строгие рамки канона. Эти стихи звали за собой, как порой зовёт душу дорога, убегающая из тесных, неудобных, но надёжных городских стен куда-то в далёкую неизвестность… Жан-Мишель много размышлял об этом и был уже почти готов броситься в эту неизвестность, довериться ей. Его останавливал только вопрос о цене этой новой свободы, страх обмануться, опасение, не окажется ли такая свобода просто обманом, разрушением морали и нравственных правил? Что, если дурная молва о Вийоне права, а он, Жан-Мишель, ошибается?..
Читать дальше