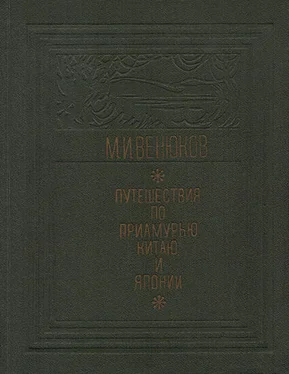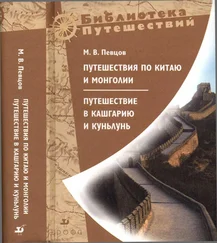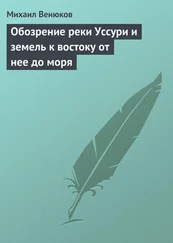Рано утром 13 июля мы пустились назад, перешли все пять бродов, еще более глубоких, чем вчера, и часам к двум пополудни вышли снова на тропинку, где и соединились опять все вместе. Как трудно было пробираться по утесистому косогору, составляющему правый берег Фудзи, можно судить по тому, что мы шли по нем полторы версты долее пяти часов, большею частью ползком и поодиночке, чтобы падение одного не было причиной гибели другого. Достигнув благополучно прежней тропинки, я спросил проводника, точно ли он уверен, что не будет впереди таких трудных мест, и приведет ли он нас туда, куда мы желаем, то есть во Владимирскую гавань, фигура которой была объяснена чертежом. Он отвечал утвердительно; к сожалению, последующее движение вперед убедило меня совершенно в противном.
Здесь необходимо объяснить, каким образом перешел я с берегов Уссури в долину Фудзи и почему, заметив это отступление, не исправил его немедленно возвращением на настоящий путь. Сущность дела состоит в том, что между туземцами Уссури носит это название лишь от слияния своего с Фудзи, далее же вверх называется Сандугу {2.52} . Когда мы договорились с орочем идти к морю, я требовал, чтобы он вел нас по Уссури, а не по Нынту, где существует также тропинка. Уговор этот действительно исполнялся в первые полтора дня, почему я и не имел причины быть строго придирчивым к указаниям проводника. Когда же 11 числа я заметил, что мы постоянно подвигаемся на восток, вместо того, чтобы идти на юг, я допросил подробно ороча, по какой реке он нас ведет, и оказалось, что мы идем по Фудзи. Сначала я хотел вернуться назад к Сундугу; но соображая, что карта д'Анвиля показывает вершину Фудзи даже в более близком расстоянии от Владимирского порта {2.53} , чем самые источники Уссури, и имея в виду пользу от ознакомления со всеми окрестностями гавани, я решился не изменять начатого раз пути и уже при возвращении проникнуть от моря на берега собственно Уссури. Сверх того, все местные жители утверждали единогласно, что тот перевал, к которому мы идем, есть удобнейший из всех и при переходе через него легко даже не заметить горы. Поэтому я и продолжал следование безостановочно, не опасаясь даже за продовольствие, которое казалось возможным приобрести у жителей Владимирской гавани. 15 июля мы действительно перешли невысокий и грязный хребет, отделяющий Фудзи от берегов океана, и вступили в долину Лифулэ, текущей в море.
Вся пройденная нами местность от устьев Нынту до самого перехода в горах представляет непрерывную долину, шириною от полуверсты до четырех верст и очень удобную для поселения. Она покрыта преимущественно отдельными группами вязовых и дубовых деревьев, иногда рощицами, которые на горах переходят в сплошные смешанные леса. Чем ближе подходишь к перевалу через горы, тем чаще встречаются, среди берез, ильмов, осин и других лиственных пород, хвойные деревья — кедр и отчасти лиственница и ель. Великолепные кедровники достигают здесь особенно исполинского роста. Часто над массой берез, ильмов и дубов, в просветы между их ветвями, виднеются высокие стволы этой хвойной породы с увенчанными зеленью вершинами, как бы один лес над другим. Самый хребет порос исключительно елью, а по скатам березой. Длина Фудзи от источников до слияния с Сандугу составляет около 75 верст.
Вступив в долину Лифулэ, называемой орочами Тадуху, я с удовольствием заметил, что эта долина направляется к юго-востоку, то есть не отделяет нас от Владимирской гавани, как было я думал, основываясь на карте г. Ладыженского {2.54} . Однако же не было никакого сомнения, с первых же шагов, что мы выйдем к морю севернее нашей цели. Вознаграждением за эту неудачу служило отчасти открытие прекраснейших мест для поселения почти в самых верховьях реки, так что расстояние между возможными в будущем соседними поселениями по Лифулэ и Фудзи не будет достигать и 20 верст. Первоначально я надеялся, со слов проводника, достигнуть моря 17 числа, так как вся долина реки не превосходит 55 верст, но по многочисленности рек, которые приходилось перебредать с осторожностью, мы достигли морского берега лишь 18-го утром. Этот день был очень радостным для нас как потому, что мы видели себя у давно желаемых берегов моря и почти у цели своих странствований, так и потому, что, наконец, впервые с самого отбытия из Уссурийского поста мы не подвергались промоканию от дождя. Сильный ветер, дувший с северо-востока параллельно общему направлению морского берега, не только разогнал тучи, но и очистил весь горизонт от облаков и тумана, которые дотоле носились по горам. Волны моря, гонимые этим ветром, с шумом выбегали на каменистый берег и песчаный бар, где дробились, образуя полосу бурунов. Дав отдых команде, я сам занялся съемкой местности и обозрением ее, по возможности на дальнее расстояние, с высоты одной горы, которая находится к северу от устьев Лифулэ. Но стоять на вершине этой горы не было никакой возможности, потому что ветер имел там силу урагана, сдувавшего камни. Спускаясь вниз, я пытался было перейти на правый берег Лифулэ, но это мне не удалось по глубине реки и отсутствию лодок. Возвратясь к нашему огню, я приказал поставить на небольшом холме крест и сделать на нем надпись, объясняющую, что я был в этом краю 18 июля 1858 года. Между тем казаки, ободренные после утомительного похода видом моря, деятельно приготовлялись к дальнейшему пути: чинили платье и обувь, охотились на тюленей, приводили в порядок свои вьюки. Проводник-орочен скитался по берегу, собирая хай-цай, известную морскую водоросль, которая имеет форму волнообразно изогнутых лент кофейного или бурого цвета, длиною до трех аршин.
Читать дальше