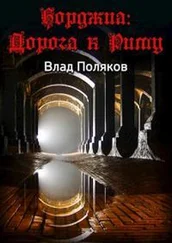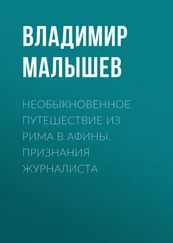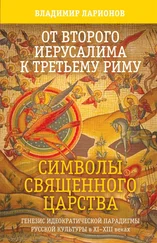Но усиленные ученые занятия не мешали Аристарху Ивановичу посещать Екатерину Павловну Горицветову, а посещения его, и прежде регулярные, даже участились после отставки. «Живу между Марией Федоровной и Екатериной Павловной, так сказать, между двух огней», – позволял себе несколько рискованно шутить отставной дипломат, правда, едва ли только не с глазу на глаз с одним из этих огней, с Екатериной Павловной; та в ответ хмурилась и одновременно невольно улыбалась. Оба огня были княгинями, причем вдовствующими, хотя одна из них звалась благочестивейшей государыней, а другая… На этот счет Аристарх Иванович имел свое мнение, и кое-кто из иных сверхвнимательных читателей полагал, что вычитал или вычислил его из «Империи Рюриковичей». Сама Екатерина Павловна изредка бывала при дворе, а с Марией Федоровной виделась даже несколько чаще; злые языки поговаривали вполголоса, что предметом их бесед был все тот же Аристарх Иванович, хотя лично я думаю, что не столько он сам, сколько его книга, но кто знает, может быть, наоборот, он сам. Отставка Аристарха Ивановича курьезно совпала с исключением будущей моей тети Маши из Смольного института. «Ну вот, милая мадемуазель, мы с вами оба отставные, – шутил Аристарх Иванович в своем стиле, – я отставной государственный муж, а вы отставная благородная девица». Неужели он подозревал, как сбудется его шутка в его собственной жизни и в жизни милой мадемуазели? Шутки Аристарха Ивановича в петербургских салонах с недавнего времени начали сближать с пророчествами князя Кеши. Екатерина Павловна ужасалась остротам Аристарха Ивановича, но в глубине души принимала их к сведению и ценила их, так как они ее успокаивали. «Понимаю, драгоценная княжна, почему вы держали маркиза де Сада под подушкой, – продолжал Аристарх Иванович, – родная душа, ничего не скажешь. Представьте себе: Франция, 1792 г., заря якобинского террора. Наш дорогой маркиз предлагает воздвигнуть надгробие – кому? Божественной Лаурег своей прародительнице, воспетой Петраркой. К сожалению, портреты Лауры не сохранились, но я не сомневаюсь: милейший маркиз был на нее похож, боюсь, что точная копия, и если бы Петрарка, увенчанный лаврами ради Лавра (не забудьте, Лаура есть лавр), так вот, если бы Петрарка заглянул в книги, написанные в Бастилии отдаленным потомком своей мадонны, он подтвердил бы, что и мадонна Лаура на него слишком похожа. Да и все причуды достойнейшего маркиза не с того ли начались, что священник спутал имена, нарек младенцу не то имя при крещении. Следовало назвать его исконным родовым провансальским именем Альдонс, а парижский попик возьми да и назови его Альфонс, Донасьен-Альфонс-Франсуа де Сад. А вы представьте себе: маркиза нарекли Альдонс. Это был бы другой человек; думаю, он стал бы схимником, мучеником, если не католическим, то катарическим (альбигойским). Ведь имя Альдонс – это катарсис, что, надеюсь, подтвердит и Платон Демьянович. (Чудотворцев нередко заходил вместе с Аристархом Ивановичем в квартиру княгини Горицветовой и при этих словах своего приятеля с готовностью кивал.) – Кстати, имя Альдонс никого не напоминает вам? – продолжал Аристарх Иванович. – Как звали возлюбленную Дон Кихота? Дульсинея, говорите вы. Против этого нечего возразить, но настоящее-то ее имя Альдонса Лоренсо. Узнаёте нашего дражайшего маркиза (иногда его называют божественным) в Дульсинее Тобосской? А кто поручится, что у Лауры не было тайного катарического (катарсического, то есть очистительного) имени Альдонса? Кто же она, если не Дульсинея? А наш божественный маркиз – Дон Кихот и Дульсинея в одном лице, так что ему самое место под подушкой у нашей истинной Дульсинеи (он слегка кланялся в сторону княжны Мари). Сами посудите, как же в наш вырождающийся век не исключить из института благородных девиц Дульсинею, дочь Дульсинеи, она же Лаура, будь я Петрарка».
Согласитесь, Екатерина Павловна не могла не улыбнуться при этих словах.
– А что еще дедушка говорил, вы не помните, ma tante? – не мог удержаться я. У меня с моей тетушкой-бабушкой было непререкаемое правило: на людях я называл ее «тетя Маша» и говорил ей «ты», а с глазу на глаз обращался к ней непременно на «вы» и непременно называл ее «ma tante» или «tante Marie».
– Мало ли что он говорил. – Мария Алексеевна поджимала губы, пока не затягивалась очередной папироской. – Он же был говорун, в том же роде, что Петр Яковлевич Чаадаев и Федор Иванович Тютчев, тоже дипломат, mon enfant (до самой своей смерти она называла меня наедине «mon enfant», дитя мое, и только на людях «Инок», как меня звали все наши знакомые, и не только наши, но и мои, среди которых был народ со всячинкой, включая блатных). – Мало ли что он говорил. Он любил играть в слова. Например, maman, Екатерину Павловну, он называл Словараня или Сольвейг.
Читать дальше