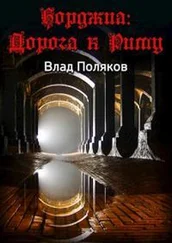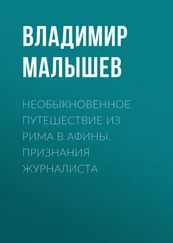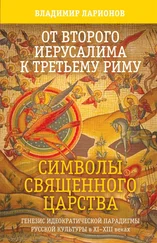Надо сказать, что квартира Чудотворцева подтверждает худшие слухи о нем. Мало того, что это одна из немногих московских квартир, числящихся за своим съемщиком с дореволюционных времен. Чудотворцев нанял эту квартиру то ли в 1911, то ли в 1912 году, вернувшись из Германии. Приданое Олимпиады Гордеевны еще не было растрачено и позволяло сравнительно молодому профессору роскошествовать. В этой самой квартире Олимпиада Гордеевна умерла в 1919 году от воспаления легких, хотя могли быть и другие причины. Но вот что примечательно: за пятьдесят с лишним лет советской власти квартира неизменно числилась за Чудотворцевым при всех его неоднократных арестах, затяжных ссылках и отсидках, а уж об уплотнении не было речи. Когда профессор, деликатно говоря, отсутствовал, в квартире неизменно проживал его сын Павел, он же Полюс, и Марианна Бунина. По-видимому, они действительно жили как брат и сестра, хотя у Полюса были в отношении Марианны другие намерения. Но так или иначе, квартиры ничто не коснулось. Один этот факт свидетельствовал о том, что у опального профессора были высокие покровители и положение он занимал особое.
Жил в этой квартире и я в бытность мою невенчанным мужем или, как тогда говорили, другом Киры. Но даже тогда я не представлял себе, сколько в квартире комнат: минимум четыре или максимум семь. По всей вероятности, их было все-таки пять. Но так или иначе, чудотворцевская квартира всегда представлялась мне целым особым миром. В нашей с Кирой комнате бренчали гитары бардов и шелестели страницы самиздата, а в покоях Платона Демьяновича слышалось шарканье его шлепанцев и время от времени фортепьянные пьесы от Букстехуде до Скрябина. Это играла Клавдия, она же Клавиша.
Меня поразило, как мало изменилась квартира Киры да и она сама. Те же плохо покрашенные или высветленные белесые волосы цвета сортирной щетки, как говорила одна пожилая дама. Те же резко, как бы неумело, нарочито броско накрашенные губы. Слишком короткий халатик, приближающийся к мини, раздражающе, демонстративно плохо натянутые чулки. Долговязая тощая девчонка, не то имитирующая, не то скрывающая седину. И в глубоких глазницах тусклый дым от неизменной неугасимой сигареты, вечно слезящиеся, водянисто голубые глаза.
Словом, за четверть века ничего не изменилось. Кира поцеловала меня в губы, как будто мы вчера расстались. Расположившись с ногами на кушетке, она принялась варить кофе на спиртовке, стоявшей на журнальном столике, как тогда. Косясь то на спиртовку, то на меня, Кира сказала:
– Мог бы и сам позвонить. – Я промолчал не то чтобы смущенно, но действительно не зная, что сказать. Кира продолжала: – Уж в последнее-то время поводов было предостаточно, не говоря уже о том, что нам с тобой вообще есть что вспомнить.
Я сразу узнал цитату из фильма «Девять дней одного года». Кира всегда имела обыкновение говорить цитатами из фильмов, спектаклей и книг. Одно время она на каждом шагу повторяла из Хемингуэя: «Человек один не может». А вот теперь «нам есть что вспомнить». Подспудный эротизм этой цитаты, признаться, насторожил меня. Кира попала в привычную колею.
– Старомодность, знаешь ли, тоже имеет пределы. Но тут тебя обязывала позвонить мне именно твоя пресловутая старомодность. Мог бы хоть свою книгу мне подарить.
– Да ведь книга-то пять лет назад вышла.
– Это-то и возмутительно. Было время удосужиться. «Русский Фауст»! Я-то думала, что это о Чудотворцеве. Хорошо, что хоть не о нем…
– Так-таки хорошо?
– Еще бы не хорошо! Последнее время появляется столько параши… Нет, уж лучше пиши о своих предках, о своих корнях… Это, кстати, и модно. Ты бы лучше так и назвал свою книгу «Потомок Фауста». А то что мелочиться…
Меня подмывало спросить у нее, читала ли она «Русского Фауста», но тогда пришлось бы обратиться к ней на «вы» или на «ты». Ее наверняка взорвало бы, если бы я сказал ей «вы», пусть даже обмолвившись, а сказать ей «ты» – значило поддакнуть ей в одном крайне нежелательном для меня отношении, что, впрочем, было неизбежно. Но пока говорила она:
– Подумать только, Фавстов – потомок Фауста! Это было бы что-то вроде последнего из могикан или, на худой конец, из удэге. Как раз в твоем духе… А скажи-ка, это в твоей книге написано, что твой предок не умер?
Она язвила меня немилосердно, но за ее язвительностью отчетливо угадывалось нечто иное…
– Нет, в книге этого не написано, – ответил я, – Фавст Епифанович был, как известно, казнен при Иване Грозном.
Читать дальше