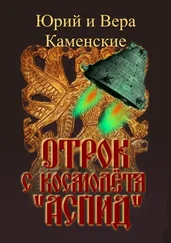На третьи сутки тронулись в дорогу.
Санный путь пролегал по замерзшей реке. Лошади бежали шибко. Вану мычал нескончаемую песню. Что видел, то и укладывал в протяжный мотив. У Зуева слезились глаза от ослепляющей белизны. Как и затянутому пеленой небу, пространству не было ни конца, ни края.
Снег. Снег. Снег.
То был померенный верстами путь. Он начинался от Тобольска, а кончался незнамо где — за дремучими лесами, за протоками Оби, за отрогами Полярного Урала, за топкими болотами… Путь этот не значился на картах, о нем не сообщали никакие записи, а уж где точно пролегает южная оконечность Карского моря — про то и вовсе никто не знал. Вот в какие пространства определила судьба идти Зуеву.
Первую ночевку сделали в крошечном татарском поселении — Сузунских юртах.
В те времена сузунцы славились на весь тобольский край плетением рогож. «Рогожка рядная что матушка родная», — говорили сузунцы.
Хозяин избы жаловался: притесняют казаки и купцы — за бесценок скупают рогожу. Он принял Шуйского за главного и просил старика о заступничестве перед властями.
Ах, старик Шумский! Ему понравилось изображать начальственное лицо, прихвастнул, что в столице знает всех профессоров, сочувствовал сузунскому мужику:
— Вижу, братец, нелегко вам приходится. Да оно и понятно: на рогожке сидя, о соболях не рассуждают.
— И о соболях рассуждаем, — заметил сузунец. — Бьем их в лесах. Да цена за них какая? Тьфу. Мы-то еще рассейские, наши деды с Ермаком сюда пришли, а самоеду и остяку и совсем податься некуда.
— Защитничек самоедский! — встрял в беседу Ерофеев.
— Хоть инородцы, а люди все ж…
— Самоедцы-то?
— Люди, люди, — твердил свое сузунец. — Сами-то далече?
— Далече, — важно ответствовал Шумский. И Зуев улыбался, глядя, как чучельник входит в роль барина. — До самого Ледяного моря.
— Поди ж ты! Не дойдете.
— Чего ж ты радуешься? — осерчал Шумский.
Простоватый сузунец всплеснул руками:
— Чего не радоваться, ежели с готовностью на погибель идете.
— Дурья ты башка! — не вытерпел Шумский. — Никакого понятия. Идем смотреть достопамятности для научных целей.
— Большие, знать, вы люди! — восхитился сузунец. — А на гибель не боитесь скакать. Вы сами кто же будете?
— Нату-ра-лис-са! — скаля зубы, четко ответил Вану. — Мы нату-ра-лисса. Гибель нет. Сами пойдут — гибель будет. Со мной — нет гибели.
— Натуралисса! — причмокнул мужик. — Кого не видал в наших местах, а натуралиссы не было. Чудно мне. До Березова дойдете… Ну уж, куда ни шло — до Обдорского городка. А там обратно вертайтесь. Совет мой. Шайтану там место.
И долго еще словоохотливый сузунец, стоя у двери, глядел, как растворяются в снежной целине две пароконные повозки.
— Натуралисса…
Снежный тракт повернул с реки. Наст помягчел. Где-то совсем близко тишину прострочила цокающая песенка: «цик-цок, цик-цок, цик-цок». И следом — тоненький посвист.
— Клесты весну почуяли, — засиял Шумский. — Вану, слышишь, как клест по-остяцки поет?
— Цик-цок, цик-цок, — подхватил Вану. — Солнышко теплое скоро придет. Лед сломается. Рыба в сеть пойдет, ручей побежит к речке. — Махнул кнутовищем. — Цик-цок, стал Вану натуралисса. С Васей-воеводой, с казаком Ерофеевым едет Вану к Ледяному морю.
— Меня зачем забыл? — обиделся Шумский.
— Другая песенка будет, — пообещал Вану.
Глава, где в письме товарищам Зуев рассказывает о первых верстах пути к Ледяному морю
1
Друзья мои бесценные, дорогие сердцу Коля, Фридрих и Мишенька. Пойдет скоро с мороженою рыбою обоз в Тобольск, отдам купцам это письмо. А уж из Тобольска, надеюсь, письмо к вам добежит.
Смотрю на исписанные листы, и сомнение берет: неужели цидулка моя дойдет до столицы, пройдет весь мой путь, только в обратную сторону. Да что сомневаться, доверюсь почтовым станциям.
Предвижу, друзья мои, некоторое ваше удивление — откуда такая мета на письме. И сам не перестаю удивляться. В жизни моей произошла перемена. Ежели вы думаете, что иду я сейчас с доктором Палласом к востоку, то спешу вас разуверить. Тому бы так и положено быть, но при подходе к Уралу стало донимать Петра Семеновича любопытствие: какая там земля, севернее Тобольска, вниз по реке Оби? Что за люди эти самоеды, которые числятся в разных книгах «людьми незнаемыми» и в обед которых отвращали вы меня попасть. Шутили, а вон как получилось: прямо в ихнюю страну и стремлюсь.
Доктор Паллас порешил направить меня с двумя помощниками по новому маршруту, вначале не предусмотренному, на страх свой и риск. Кто мог ожидать такого оборота? Я-то менее всего мог ожидать. И сейчас еще не могу до конца поверить, что так вышло. С академическим предписанием спешу к низовьям Оби, к Карскому заливу. Это конечная точка. Предстоит сделать чертеж морского побережья. Главное же — вызнать про обычаи остяков и самоедов, достопамятности, встреченные на пути, взять на перо. И вот ежедневно, друзья мои, я корябаю записи в путевой журнал, теша себя надеждой, что чего-нибудь Палласу придется по сердцу и он возьмет мои соображения для своего ученого отчета в Академию.
Читать дальше
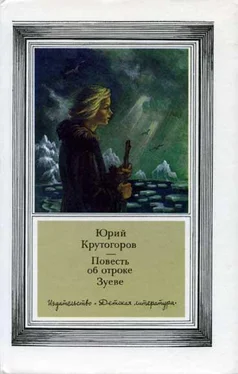
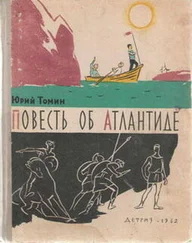
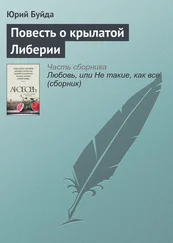

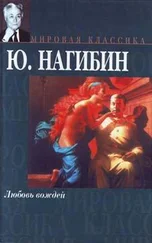
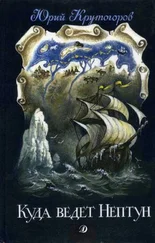
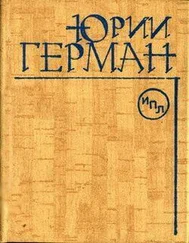


![Юрий Томин - Повесть об Атлантиде [с иллюстрациями]](/books/428044/yurij-tomin-povest-ob-atlantide-s-illyustraciyami-thumb.webp)