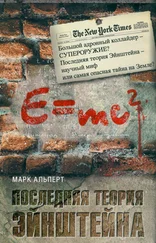Когда разошлись в разные стороны от вокзала, ей показалось, что в толпе промелькнуло знакомое лицо. Некто в коричневой шляпе двинулся вслед за консулом. А может, в ту же сторону, но она уже видела этого человека сегодня. Без шляпы. То ли в баре, то ли на перроне, где ее встречал Петр Павлович. За ней никто не шел, она проверила, зайдя в несколько дорогих лавок.
На следующий день звонок: «Приезжай в Саранак на уик-энд, погода радует».
Погода действительно стояла чудная. Теплый октябрь. Индейское лето. В дороге она старалась не думать о том, что, наверное, в последний раз видит эти невысокие горы в золотом и багряном убранстве торжественных похорон. И еще старалась не думать о предложении Альберта. Зря она в минуту слабости сказала Кристе, что не хочет возвращаться в Россию. Добрая душа конечно же передала мужу, и теперь Альберт обдумывал все новые и новые способы спрятать ее в бескрайних просторах Америки.
Как будто дело было в том, чтобы спрятаться. Нет, ей в Америке оставаться было нельзя, рано или поздно они… и даже Генрих не защитит. И весь ужас, вся безысходность в том, что «ими» могут оказаться как американцы, так и свои. Да и такие ли уж они ей «свои»? Начиналось Бог знает как давно с интимных чаепитий и встреч в маленьких кафе в Бруклин-Хайдсе.
В постели с ним было неплохо, но не более, ничего удивительно пьянящего, зато болтать часами, покуривая и попивая коньяк, — сплошное удовольствие. Он знал всех и вся, все сплетни, все тайные пороки и причуды. Он блестяще разбирался в политике и тайных пружинах, двигавших эту, тогда непонятную для нее, страну.
Он объяснил ей, в чем разница между республиканцами и демократами, и почему Кулидж так долго остается президентом, и зачем в двадцать девятом Аль Капоне открыл столовые для безработных Чикаго, он познакомил ее с «электрическим королем» Инселлом и газетным Херстом, привел к ним в студию дочь Рокфеллера и генерального прокурора Догерти.
Поэтому, когда он дал ей отставку, не лишив дружбы, она совсем не горевала и даже не обиделась: невыдающиеся плотские радости господин Бурнаков компенсировал столь необходимыми ей уроками страноведения и бытописанием русской эмиграции. Она была способной ученицей и спустя много лет, когда возглавила Комитет и моталась по всей Америке, с благодарностью вспоминала эти уроки.
Перед поездкой она купила у «Сакса» элегантное кружевное белье, модные матерчатые туфли на веревочной танкетке, со шнуровкой вокруг щиколотки, широкополую шляпу из золотистой соломки с сине-белой репсовой лентой вокруг тульи. Это было все для Саранак, все для последней попытки. Задело — «если уж у вас не получилось». Ерунда! Ничего не задело! Просто вдруг поняла, что для Генриха она — последняя женщина. Больше никого не будет, поэтому похороны любви должны быть пышными, как эта осень.
Так и вышло.
Вот он пишет… «Наше гнездышко опустело, и, если бы оно умело говорить, ему нечего было бы рассказать». Эти слова означают только одно. Надо сжечь и это письмо, но нет сил, невозможно… сейчас еще невозможно… сожгу потом… все сожгу, как он… письма Федора и Бориса уже сожгла, Рахманинова тоже, а эти не могу… потом…
Он сказал: «Ты все врешь!». Он не хотел этого разговора. Но она должна была сделать еще одну попытку, чтобы освободить его от необходимости встречаться с консулом, а себя — просить об этом. Зачем? Ведь была уверена — он снова ответит «нет».
Она сидела у края воды. Радуга стала ярче. Одним концом она упиралась в лес, другим — в далекий мыс Квадратного залива. Мать любила Тютчева и особенно стихотворение о радуге. «Хоть один смысл в моем возвращении: я смогу ухаживать за могилой родителей. Ваганьковское кладбище, — написала Лизанька, когда приехала в Америку в сорок третьем. Где это Ваганьковское кладбище? Кажется, возле Пресни. Пресню она помнит и Поварскую, а весь остальной город расплывается. Как там будет житься?»
Он сел рядом, положил голову ей на плечо. Она провела пальцами по его лицу, как раньше, когда они играли в слепых.
— И будет радуга в облаке, и я увижу ее и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле.
— Откуда это?
— Ветхий Завет. Бытие. Знаешь, первый раз я увидел радугу, когда мне было лет семь. Я участвовал в рыцарском турнире. Пошел дождь, тот, что называется «слепым». Все разбежались, а я остался, так меня потрясла радуга. На голове у меня был картонный шлем, а в руке я сжимал меч, тоже картонный. Так и стоял, пока за мной не пришла мать.
Читать дальше