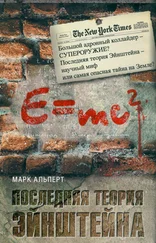Ах, все это ерунда! Глупые старые обиды.
В конце концов в чем-то они были правы. Нелегко пришлось оставшимся здесь. Пережить все эти ужасы — коллективизацию, индустриализацию, войну…
Нового приезде Генриха… Она дала знать, написала эту женскую чушь. Кстати, Генриху нравилась женская чушь. Она его умиляла. С интересом рассматривал какой-нибудь ремешок, застежку на туфлях. Нюхал флаконы и просил показать, как она умеет красить губы вслепую, не глядя в зеркало.
Иногда она ощущала такую тоску по нему, что мычала от боли. Она помнила его смех, его крепкое, ладно сбитое смуглое тело, его запах — чуть кисловатый, детский.
Он действительно был ее ребенком, ее гениальным, но кротким и послушным сыном.
С Деткой — совсем другое. Те шесть лет, что выдерживал, уклоняясь от брака, в мастерской на Пресне, примирили с ролью как бы дочери. Это потом, в Америке, он растерялся и растерял свою безграничную власть над ней. Но осталось то, чему он учил ее ночами, а иногда и средь бела дня, бросив неожиданно работу и перепачкав ее гипсом или глиной.
А вот нарывает одна заноза. Незадолго до смерти написал воспоминания и там… да, там написал, что не возвращался в Советский Союз потому, что «люди из ближайшего окружения оттягивали отъезд». А кто был ближе, чем она? До сих пор не понимает, зачем он ЭТО написал. Он предал ее, единственный раз в жизни. И ведь не было никакой нужды, Сталин уже помер. Зачем же было писать: «Дорогой ценой я заплатил за свое несерьезное отношение к своевременному возвращению на родину».
И что имелось в виду? Какая цена? Ее отношения с Генрихом или… другая? А может, и он заплатил какую-то свою цену? Детка только с виду казался оригиналом не от мира сего, на самом деле он был хитрым потаенным смоленским мужиком. Крепким орешком был.
К пятьдесят пятому стало ясно, что прежний ужас не вернется. Очкастого расстреляли, Лысый казался добродушным и недалеким, а, главное, ходили слухи, что на предстоящем съезде партии будет рассказана вся правда о злодеяниях Сталина.
Начали приглашать в посольства. Конечно, самым первым и самым безопасным по возможным последствиям было китайское.
Пошли пешком, как любил Детка, по бульварам на Пречистенку, то бишь Кропоткинскую, в Кропоткинский же переулок, в бывший особняк Дерожинской.
По дороге вспоминали, как в шестнадцатом Детка привел ее, двадцатилетнюю провинциалочку, в тот особняк на званый ужин.
Но не в ужине было дело, а в компании и картинах тогда малоизвестного художника, их хозяйка привезла из Петрограда. Сам художник был в действующей армии, где-то на румынском фронте.
Детка приобрел что-то невнятное, но очень красивое, кажется, называлось «Идея космоса». Наверное, та картина и послужила первым толчком к будущим работам Детки, тоже посвященным космосу.
Он любил ту картину, взял с собой в Америку, но не потому, что Филонов стал известен, а из-за созвучия своим собственным мистическим настроениям.
Картина висела наверху то ли на застекленной террасе, то ли в спальне, и Детка не убирал ее до последнего дня, а те, кто собирал и паковал, забыли о ней. Так и осталась на Восьмой улице. Детка горевал ужасно, корил, что в самые ответственные дни она «ошивалась» на Саранак. Она молчала. Молчала и потом, спустя десять лет, на Гоголевском бульваре, когда, вспоминая давний визит в особняк, он сокрушался о злосчастном полотне, оставленном в Нью-Йорке.
Не могла же ему сказать, что ей было ВЕЛЕНО не участвовать в сборах. Детку они в расчет не брали: он был озабочен только грамотной упаковкой своих работ.
Она сказала, что в шестнадцатом особняк поразил ее, он не был похож на тоже роскошный дом ее дяди в Сарапуле. Что-то совсем новое, необычайное.
Вспомнили Шехтеля.
— Бедный Федор Осипович, если бы мы вернулись, мы бы, в лучшем случае, закончили свои дни, как он — в нищете. А в худшем…
— Этого ты знать не можешь, — буркнул Детка.
Она покосилась на него. Бородатый старик. А каким молодцом гляделся в те далекие годы. Настоящий «его превосходительство» — изящный и могучий одновременно. Он вправду превосходил многих и талантом, и неуемной жаждой жизни, и мужской неутомимостью.
Как быстро пролетела жизнь, и сколько в ней уместилось всего!
Апрель был теплым, и они вспотели в своих тяжелых драповых пальто.
Этот поход в посольство запомнился крепко. После него все мечты о возможном приезде Генриха отлетели и развеялись. Это просто весна с ее теплым дыханием, с нежной дымкой, окутавшей деревья на бульваре, со смутными надеждами, сбивала с толку.
Читать дальше