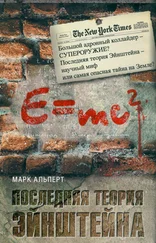Что-то в ее интонации настораживало. Какая-то сухость.
— Я сделаю все, что могу, но… — Глэдис остановилась и посмотрела ей в глаза. — Но… у него действительно есть повод для депрессии. Пойдем сядем.
Она не спросила, какой повод, потому что знала, о чем говорит подруга, и Глэдис, опустившись на скамью, снова взглянула ей прямо в глаза своими очень ясными ореховыми глазами. «Точно такие же глаза у фокстерьера Мадо», — подумалось нелепое.
— Твои поездки в Кингстон и на Саранак… Он боится тебя потерять… Подожди, — она положила твердую ладонь на руку спутницы. — Тут есть и неосознанная симуляция. Так делают дети, желая вызвать жалость и любовь родителей. И еще… он не хочет жить здесь, он действительно хочет уехать. Почему-то он испытывает чувство опасности.
Только теперь, в этой комнате с низкими потолками и ветхой мебелью, она поняла, как права была Глэдис. Только теперь она поняла, что это она была безумной, она, а Детка делал все, чтобы оттащить ее от бездны, на краю которой она балансировала.
Шаги Олимпиады в коридоре — и пакет с письмами засунут глубоко в щель.
Олимпиада вплыла в комнату, в руке баллон с «Примой».
— Что вы собираетесь делать?
— А вот что! — Олимпиада прыснула в угол между комодом и шкафом.
И сразу как будто залепили рот и ноздри тряпкой, смоченной чем-то тошнотворно-керосиновым.
— Прекратите немедленно! — давясь и кашляя, просипела она. — Немедленно!
— И не подумаю! — Олимпиада продолжала брызгать. — От вас они как раз и лезут. Они любят в бумаге жить.
— Прекратите, или я закричу!
— Кричи. Никого нету, одна Файка внизу прибирается, а ей на ваши крики начхать. Она знает, что вы сумасшедшая.
Подошла к постели и баллон наставила, будто нечаянно. Секундный помрачающий сознание ужас: «Сейчас пульнет прямо в лицо, и мне конец. Пускай конец, но не такой же».
— Я завтра же вызову Нину Аркадьевну, и она выгонит вас.
— Больно я испугалась твоей Аркадьевны.
Но баллон все-таки убрала и брызгать больше не стала.
— Откройте форточку.
Ворча ругательства, огромной ножищей встала на сиденье павловского кресла (конечно, специально, ведь рядом стоял простецкий стул) и, балансируя другой ногой — гигантской кеглей, потянулась и открыла форточку.
— Всю комнату своим «Беломором» провоняли, а «Прима» не нравится, тоже мне прынцесса, — одышливо отдуваясь, соступила с кресла. — Только я думаю, что вы не только тараканов расплодили, надо вас и на вшей проверить. Сегодня уж не буду, а днями точно проверю и, если надо будет, подстригу.
— Не посмеешь!
— Еще как посмею. Меня доктор спрашивал: «Педакулеза у нее нет?» Вшей значит. У нее, говорит, волосы очень густые, а для лежачей это нехорошо.
— Откуда у меня быть вшам? Я только с тобой общаюсь, а ты лысая.
— Так ведь этот педакулез разный бывает, может, он у вас с прошлых времен, говорят, вы очень даже любили общаться.
«Сколько раз давала себе слово не разговаривать с ней. Ведь для нее баталии подобного рода — просто наслаждение, она боец испытанный и закаленный. Не доставляй ей хотя бы этого удовольствия, раз уж ты в ее власти».
— Так что как только куплю стосвечовую лампу, так и займусь вами.
В ответ молчание.
— Коньяка принести, что ли?
Молчание.
— Ну и черт с тобой, молчи! Мне же лучше.
На кухне заорал телевизор, который Олимпиада узурпировала.
Ну вот уж без этого ящика она точно обойдется.
Какое падение! Пикироваться с полудикой бабой! Да как она смеет! Смеет, смеет… Здесь все смеют, и им наплевать, что ты пила чай с Элеонорой Рузвельт и ужинала с Рахманиновым, кстати, он осторожничал и никогда не передавал деньги лично, а либо через посредника, либо через свою супругу — милейшую Наталью Александровну.
Конечно, очень разные люди жертвовали на помощь воюющей России. Кто-то ненавидел советский режим, кто-то тосковал по оставленной родине, американцы, посмотрев кинохронику и услышав по радио о чудовищных потерях русских, несли и деньги и вещи, но для большинства все решало имя Генриха. Его благородство и бескорыстие были известны широко.
Бурнаков настаивал, и она легко уговорила Генриха выделить из Еврейского совета по оказанию помощи России русскую секцию. Генрих был почетным президентом совета, и его вовсе не интересовали бюрократические интриги, а главное — он исполнял все или почти все, о чем она просила. В общем русская секция начала существовать самостоятельно, была широко разрекламирована в прессе, и дело пошло. Оно пошло так успешно, что уже довольно скоро все забыли, что секция отпочковалась от Еврейского совета, это было очень кстати, так как в среде русской эмиграции антисемитский душок все-таки ощущался. Она осторожно, исподволь поменяла название, теперь это был Комитет помощи России в войне. Председателем стал Детка, она — ответственным секретарем.
Читать дальше