Он предполагал продолжать путь в одиночестве, но Сюзанна взбунтовалась. Речи о буранах, о льдах на реке ее не пронимали. Ее горячность поразила его.
— Да хоть пешком иди в свою Прагу, мы с тобой пойдем…
— Но…
— Но нет, — и, чуть помягче, повторила: — Но нет, мой милый Кеплер. — И улыбнулась. Думала, он догадался, как ему несладко быть вечно одному.
— Какая ты добрая, — он бормотал. — Какая добрая.
Всегда он думал, ничуть не сомневался, что другие лучше его, заботливее, благородней, такое положенье дел, какого даже оправдание сплошное — вся жизнь его — не может изменить. Любовь к Сюзанне вечным, необъяснимым страхом ему теснила сердце, но и она была недостаточна, недостаточна, мала, как все, что исходило от него, как сам он. С мокрыми глазами он сжал ей обе руки, и, боясь сказать не то, молчал, кивал, кивал и таял.
В Праге остановились «У кита» что рядом с мостом. Дети так замерзли, что не плакали. Корабельщики катили с пристани бочонок его бесценных книг, по слякоти и снегу. Хорошо, что он снутри выложил его ватой, подбил клеенкой бочарные клепки. «Таблицы» — был изящный том in folio. Двадцать лет, не больше и не меньше, убил он на эту книгу! В нее ушла большая часть его, он знал, но не лучшая, нет, не лучшая. Прекраснейшие взлеты достались «Мировой гармонии», и Astronomia nova, и Mysterium — его первенцу. Да, он чересчур много времени извел на эти «Таблицы». В год, ну пусть в два легко мог бы уложиться, когда после смерти Браге получил все наблюдения — если б не разбрасывался. Еще бы и разбогател. Теперь, когда все тем только и заняты, что рвут друг другу глотки, кому какое дело до таких сочинений? Возместить расходы на печатание, и то бы славно. Положим, кой-кому все это, может быть, и небезразлично и теперь — но что ему в китайцах, их обращать, в папизм к тому же, черт ли в них? Да, ему будут благодарны моряки, и путешественники, отважные исследователи. Всегда его тешила мысль о суровых мореходах, склоненных над картами и диаграммами «Таблиц», острым взором пробегая блеклые листы. Это они, не астрономы, обессмертят его имя. И он бесплотно взмоет над бескрайностью, почует соленый ветер, услышит вой бури в реях: он, никогда не видывавший океана!
Он не готов был к Праге, к новому духу, распространившемуся в городе. Двор вернулся из своего венского сидения — венчать Фердинандова сынка на царство в Богемии; Кеплер было обрадовался, вообразив, что воротился век Рудольфа. По дороге сюда он натерпелся страху, не только из-за льдов. Католики делали в войне успехи, а уж он-то помнил, как тридцать лет тому Фердинанд гнал протестантов-еретиков из Штирии. Все во дворце бурлило, шумело чуть ли не весело. А он-то ждал тиши и тайных козней. А уж наряды! Желтые шапочки, малиновые чулки, парча, шитье, алые ленты; такого не водилось и при Рудольфе. Он будто к французам угодил. Но по этим-то одежкам скоро он и догадался, как обманут. Никакого нового духа помину не было, все зрелище, все напоказ, все восторженная дань не величью — только силе. Пурпур и багрец были кровавым знаком контрреформации. И Фердинанд ничуть не изменился.
Если Рудольф, пожалуй, ему напоминал, к концу особенно, чью-то впавшую в детство мать, то Фердинанд, кузен, казался обделенною супругой. Бледный, оплывший, на тонких ножках, он держался с астрономом настороже, как будто ждал, что вот придет отведыватель, куснет кусочек, и уж тогда можно будет не бояться. То и дело он проливал пренеприятнейшие паузы — трюк, унаследованный от предшественников, — темные пруды, и неприязнь и подозрение плавают на глубине. Глаза усталыми часовыми стерегли несуразно грузный нос, и, белесые и застланные, не пронзали Кеплера, скорей ощупывали. Он праздно размышлял о том, не газы ли так мучат императора: Фердинанд все рыгал, смахивая с губ отрыжку, как фокусник обманный пустячок.
Император выдавил кривую тень улыбки, когда Кеплер предстал пред ним. «Таблицы» ему льстили; он имел посягновенье на ученость. Призвал писца, с важностью ему продиктовал указ о выплате 4000 флоринов в знак признания заслуг астронома, равно и в погашение затрат на печатание, и даже присовокупил, что за казною остается 7817 флоринов долгу. Кеплер переминался с ноги на ногу, мямлил, хмыкал. Давно уж понял: царственная милость всегда недобрый знак. Фердинанд его отпустил благосклонным мановеньем, а он не двигался с места.
— Ваше величество, — сказал он, — осыпали меня щедротами. Но не в одних щедротах дело. Ваше величество истинное великодушие выказываете, за мной оставя должность императорского математика, при том что исповедую веру, осужденную в стране, вашему величеству подвластной.
Читать дальше
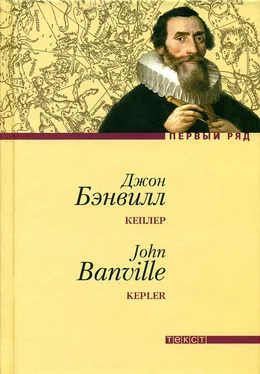











![Ларс Кеплер - Гипнотизер [litres]](/books/402890/lars-kepler-gipnotizer-litres-thumb.webp)