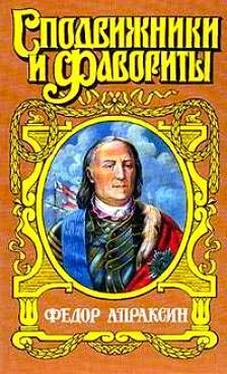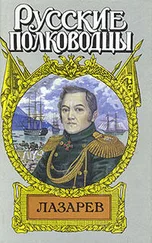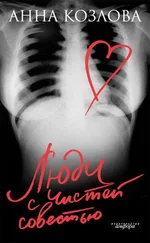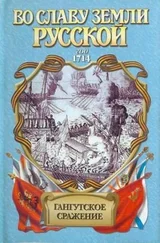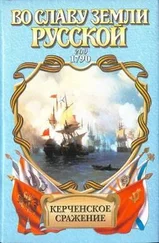На каком-то празднике в Лефортовском дворце он мимоходом обронил тучному польскому послу Яну Бокию:
— В Вене я на хороших хлебах потолстел, но бедная Польша взяла все обратно.
Польский посол обиделся:
— Ваше величество, я родился и вырос в Польше, приехал сюда и остался толстяком.
— Ты здесь, в Москве, на наших хлебах отъелся.
Под общий хохот Бокий залился румянцем…
Через несколько дней Апраксин встретил приехавшего из Архангельского вице-адмирала Крюйса. Оба они получили приглашение на званый вечер к австрийскому послу Гвариенту.
— А поляка-то не видать, — сказал Апраксин за столом Головину.
Тот усмехнулся:
— Государь велел его не приглашать…
За столом напротив, чуть в стороне щебетали дамы. В последнее время на всех посольских приемах на почетном месте, впереди, восседала дородная вдова Монс с нарядно одетой дочерью Анной. Дальше сидели генеральша Гордон и ее невестка-полковница, еще несколько офицерских жен, жены послов и резидентов.
Глядя на расфранченную и нарумяненную фаворитку царя, Апраксин в душе негодовал. Сам он совершенно равнодушен был к прекрасному полу, но не мог безучастно взирать на горести опальной царицы. На днях его сестра Марфа рассказывала о горькой участи Евдокии.
— Олешку-то у нее отняли, Наталья увезла в Преображенское. А самую в темной карете с солдатами повезли в Суздаль в монастырь.
«Баба-то молодая, в соку, — вздыхал Апраксин, — собой пригожая, и сынка отняли силком, кровь родная…»
В разгар веселья царя ни с того ни с сего бросило в озноб. Закололо в животе. Вызвали доктора, итальянца Карбонари, тот быстро осмотрел царя, дал ему бокал вина, недомогание скоро прошло.
Царь оставил доктора за столом и стал подшучивать:
— Слыхал я, ты жену свою торговать намерен?
Итальянец в ответ засмеялся:
— Не получая от тебя жалованья за год, государь, не то подумаешь. Твой князь Ромодановский — затейник. Когда я у него положенные деньги просил, он советовал мне занять у кого-нибудь под залог, а мне, кроме жены, закладывать нечего…
Петр подозвал Головина и Апраксина:
— Со стрельцами покончим, поедем к Воронежу, заложим корабль новый, доселе у нас не деланный. Чертеж ему я сам вычертил, и строить будем сами, без иноземцев.
В ту осень события в Москве перепутались необычайно. На балах веселились безудержно, вино лилось рекой, а назавтра с похмелья казнили стрельцов, текли бабьи слезы, вперемежку струилась кровь людская…
Под стенами Новодевичьего монастыря на тридцати виселицах качались две сотни повешенных стрельцов. Напротив окон Софьиной кельи повесили троих стрельцов, в руки им сунули те самые челобитные, которые писали они опальной царевне…
На следующий день после приема у посла на плахе окончили жизнь больше сотни стрельцов. Не упустил отписать обо всех подробностях казни и цесарский секретарь Корбу: «Желая, очевидно, показать, что стены города, за которые стрельцы хотели силою проникнуть, священны и неприкосновенны, царь велел всунуть бревна между бойницами московских стен. На каждом бревне повешено по два мятежника. Таким способом казнено в этот день более двухсот человек… Едва ли столь необыкновенный частокол ограждал какой-либо город, какой изобразили собою стрельцы, перевешанные вокруг всей Москвы». Кровавые зрелища поразили иноземца и в последующие дни. «…27 октября… — пометил он, — эта казнь резко отличается от предыдущей. Она совершена различными способами и почти невероятными… Триста тридцать человек зараз обагрили кровью Красную площадь. Эта громадная казнь могла быть исполнена только потому, что все бояре, сенаторы царской Думы, дьяки по повелению царя должны были взяться за работу палача. Мнительность его крайне обострена; кажется, он подозревает всех в соучастии к казненным мятежникам. Он придумал связать кровавой порукой всех бояр… Все эти высокородные господа послушно явились на площадь, заранее дрожа от предстоящего испытания. Перед каждым из них поставили по преступнику. Каждый должен был произнести приговор стоящему перед ним и после исполнить оный, собственноручно обезглавив осужденного.
Царь сидел в кресле, принесенном из дворца, и смотрел сухими глазами на эту ужасную резню. Он нездоров — от зубной боли у него распухли обе щеки. Его сердило, когда он видел, что у большей части бояр, не привыкших к должности палача, трясутся руки…
Генерал Лефорт также был приглашен взять на себя обязанности палача, но отговорился тем, что на его родине это не принято. Триста тридцать человек, почти одновременно брошенных на плахи, были обезглавлены, но некоторые не совсем удачно: Борис Голицын ударил свою жертву не по шее, а по спине; стрелец, разрубленный таким образом почти на две части, перетерпел бы невыносимые муки, если бы Александр, ловко действуя топором, не поспешил отделить несчастному голову. Он хвастался тем, что отрубил в этот день тридцать голов. Князь-кесарь собственной рукой умертвил четверых. Некоторых бояр пришлось уводить под руки, так они были бледны и обессилены».
Читать дальше