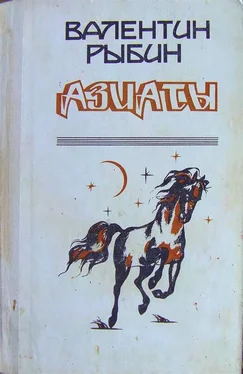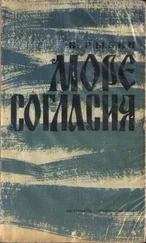Александра Львовна, видя нерешительность мужа, стала подталкивать его:
— Поезжай, поезжай к Семёну Андреевичу. Коль не поможет он, то сама к государю отправлюсь!
Марфино от Москвы недалеко, возле Мытищ. Добрался туда Волынский за один день.
Отставной генерал-майор Семён Андреевич Салтыков встретил воспитанника с распростёртыми объятиями:
— Боже мой, кого ко мне нелёгкая занесла! — обрадовался он, обнимая и ведя Артемия под руку от ворот усадьбы к барскому дому. — Давно пора бы заявиться. Я уж стал подумывать, что ты вовсе забыл обо мне. С детства ещё заметил за тобой небольшой грешок: любишь и милуешь только того, кто тебе надобен, а как понял, что от него больше пользы нет, так и в сторону, пшёл прочь, каналья! Так ведь говорю? Да не дуйся ты — все с малолетства мы таковы. Потом уж, к старости, ценить начинаем прошлое. Вот и к тебе, видно, добрая отзывчивость пришла.
— Спасибо за добрую встречу, дяденька. — Волынский сверху смотрел на седобрового ветерана и конфузливо думал, что он справедлив в своих суждениях. «Но что поделаешь — сам ведь меня таким воспитал! Только и твердил: не расходуй себя по пустякам, жизнь — не шуточное дело. Сам учил меня с людьми, как с куклами обращаться, а теперь добра и отзывчивости требуешь!»
Волынский поднялся по мраморным ступеням в дом, обнимая привычно на ходу всю салтыковскую челядь: старших чмокал в щёчку, детям вкладывал в руки конфеты в золочёных бумажках. Генералу привёз коробку турецкого табаку, чем несказанно порадовал старика. Семён Андреевич тут же и раскурил трубку, чаю китайского велел подать. К чаю он приучил Артемия с малолетства, потому как все мытищинцы жили, «в чае души не чая».
— Забыл, небось, как и пахнет чаёк, — приговаривал, разливая в чашки, Салтыков. — В персидских краях кофий небось выучился пить? Слышал, будто бы в Исфаганъ к шаху ездил. Интересно в Исфагани-то? Я бы на твоём месте записки составил о поездке.
— Выберу время — напишу, — пообещал Волынский.
— Забудешь многое, сколько уж лет прошло, как вернулся! — предостерёг Салтыков.
— Не забуду, дяденька, я дневник в поездке вёл. Врач мой, Ангермони, обо всём аккуратно записывал: и о шахе, и о его эхтимат-девлете — первом министре. Мы ведь в тот год очень выгодный торговый договор с Хусейном заключили. Почестей мне не было конца. Государь Пётр Великий полковничьим чином вознаградил и генерал-адъютантом своим сделал. А теперь всё посыпалось прахом…
— Что так? — насторожился Салтыков, ставя чашку на стол, а дымящуюся трубку кладя в пепельницу.
— Много всяких мелочных неурядиц поднакопилось,
— Волынский потупился, и генерал понял, что воспитанник его недоговаривает оттого, что не столь уж и мелочны эти неурядицы.
— Что же это за неурядицы, Артемий? Сказывай, чего уж там, если в моих силах — помогу.
— Дурные люди, дяденька, дурными слухами сильны. Двинулись мы в персидский поход, высадились на Тереке. Отряд наш бросился на горцев, да получил как следует по зубам. Тут же сановники царские мнение своё возымели: это де губернатор Волынский, не зная истинной обстановки в Кавказских горах, не смог сообщить о силах противника. Государь выслушал Толстого да Апраксина и поверил им, а ко мне холодность проявил… А теперь с князем Мещерским неурядица получилась… — Артемий Петрович выложил всё, как было, и закончил грубо: — Беда в том, что Мещерские, эти чёртовы недотроги, подали на меня в суд!
Салтыков рассмеялся, представив князя Мещерского на деревянной кобыле, с двумя живыми собаками на ногах, но постепенно смех его перешёл в злой смешок и лицо озарилось важным достоинством.
— Тебе, Артемий, следовало подумать, кто ты и от какого рода идёшь, прежде чем срамить себя перед честным народом. — Старик вновь взялся за трубку я поспешно затянулся дымом, что означало крайнюю его раздражённость. — Сколько раз я говорил, что род твой идёт от самого Боброка. Не думаю, чтобы Боброк стал вешать кому-то живых собак, на ноги или кого-то избивать принародно. Величие и достоинство твои! предков в том, что они жалели и жаловали слабых, а только к врагам государства Российского были беспощадны. За то их любят и ценят потомки… А ты видать, измельчал. Только и досталась тебе от Боброка одна отчаянная злость, а добра он тебе не оставил. Да только ли в одной памяти дело?! — воскликнул Салтыков.
— Ты и из моего, считай, двадцатилетнего воспитания ничего, кроме гордыни, не воспринял.
— Дяденька, о каком воспитании речь? — возразил Волынский. — В школах я не бывал и не знал никаких регул [7] Регулы — правила.
. До сих пор не знаю ни французского, ни немецкого, ни голландского настолько, чтобы говорить на них. Я до сих пор не прочитал ни одной заморской книги. Мог ли я, отданный вами в пятнадцать лет в драгунский полк, простым солдатом, научиться высокого штиля манерам и грамоте?! Я научился тому, чему учат в полках — сквернословию и мордобою. Я учился терпеть зуботычины, но так и не научился принимать их как должное, и отвечал на одну — двумя, а то и тремя, и четырьмя. Этим я заставил уважать себя. Ну уж когда до ротмистра дослужился — тут моя рука сдерживаться перестала: бил каждого — учил жизни и порядку…
Читать дальше