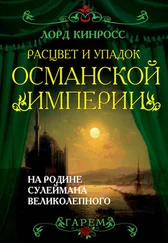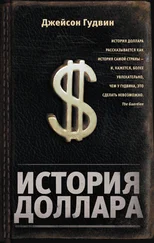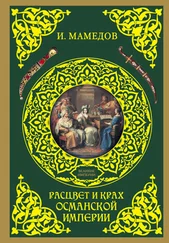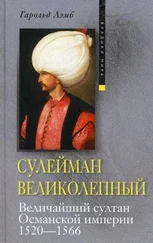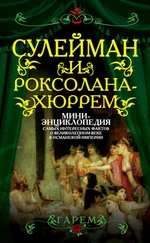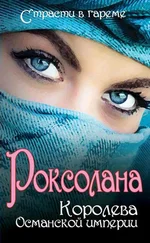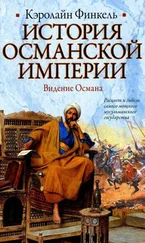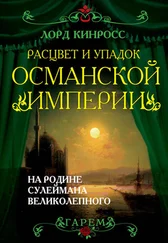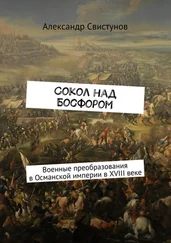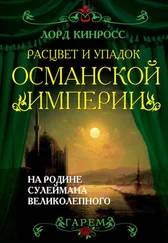И вот наконец 23 апреля, в День святого Георгия, [19] Турки были весьма удивлены, обнаружив в греческих церквях изображение Георгия Победоносца: они считали его своим.
движение начиналось в самом дворце. Словно торговое судно, внезапно открывшее замаскированные орудийные порты и поднявшее пиратский флаг, дворец превращался в маневренную боевую машину. Алебардщики, чьи длинные волосы закрывали им глаза, словно шоры, когда они приносили дрова в гарем, становились фуражирами. Дворцовые портные, сапожники и лекари упаковывали свои инструменты, чтобы доставать их потом в каждом лагере. Псари, сокольничие, садовники и гребцы султанской барки собирались под знаменами, словно янычары, которыми они, в сущности, и были, и готовились выступить в поход. Главный садовник возвращался к своей летней профессии палача, готовый казнить любого, кто нарушит прославленный порядок османского войска в походе. Юные слуги, чьи обязанности зимой заключались в том, чтобы, скажем, зажигать свечи в опочивальне султана, или читать нараспев Коран, или одевать султана по утрам, вскакивали на арабских жеребцов и формировали особый отряд вокруг своего повелителя. Садились в седло кадиаскеры Анатолии и Румелии. Кадий Стамбула готовился принять на себя временные обязанности правителя города. Флот выходил в Дарданеллы. В землю втыкали бунчуки — в Скутари или у Белградских ворот, в зависимости от того, где предполагалось вести кампанию, и войско выступало в поход — не только подданные, но и все правительство; каждый занимал определенное ему место, и империя начинала дело, которое удавалось ей лучше всего и, по всей видимости, нравилось больше всего: шла на войну.
Пока армия двигалась по старой военной дороге, ведущей к Белграду, к ней в стройном порядке присоединялись войска местных народов — столько, сколько нужно: конные отряды славянских войнуков, унаследованные султанами от прежних балканских правителей; профессиональные мародеры, по большей части христиане, которые служили также в гарнизонах крепостей и на речном флоте; молчаливые дербенджи, охранявшие горные перевалы; конные скотоводы с холмов Валахии — по одному мужчине из каждой пятой семьи. На всем протяжении марша к армии стекались все новые и новые люди, в основном христиане, готовые рыть подкопы, тянуть на бечеве баржи, делать оружие и изготавливать порох. Армия разрасталась до ста с лишним тысяч, но могли подойти и новые подкрепления: крымские татары, войска вассальных Молдавии и Валахии, усатые трансильванцы. Все они являлись по первому зову и платы не требовали, меж тем как противник пытался наскрести деньги по сусекам и умолял своих подданных взяться за оружие.
Выход войска из столицы был ярким зрелищем, и редкий иностранец упускал случай его увидеть. Делла Валле наблюдал его в 1615 году. Впереди несли привязанные к пикам флаги, желтые и красные; затем попарно ехали на лошадях чавуши и шли артиллеристы с аркебузами и кривыми саблями. Далее следовала большая группа пехотинцев, которые несли оружие, вырезанное из дерева (делла Валле решил, что это символ государственной власти и правосудия), а за ними — сипахи Румелии, вооруженные луками и стрелами (но не пиками, поскольку их участие в той кампании не предусматривалось) и одетые в звериные шкуры, подобно древнегреческим героям.
Затем шли новобранцы-янычары и их ага, белый евнух, за ними несли знамена янычарского корпуса и верхом ехали командиры янычар. Проход рядовых янычар, появившихся следом плотной нестройной толпой, [20] Обычай маршировать в ногу был забыт вместе с римскими дорогами и возродился после изобретения дегтебетона.
занял довольно долгое время. «На них не было никаких доспехов, а все оружие составляли кривые сабли, аркебузы и маленькие топоры или лопатки, висевшие на поясах. Они нужны скорее для рытья земли и рубки деревьев, нежели для боя; и все же это оружие, которое следует уважать, ибо оно играет важную роль при штурме городских укреплений».
Толпе, собравшейся посмотреть на войско, демонстрировали деревянное оружие, деревянные пушки и маленькие галеры, на которые были усажены куклы в западных головных уборах; над ними многозначительно раскачивались топоры. За агой янычар шли четыре знаменосца со свернутыми флагами, за ними — толпа дервишей, которые пели, плясали и кружились вокруг своей оси, далее несли зеленый флаг эмиров и ехали верхом сами эмиры, в зеленых тюрбанах и без оружия. Проехали кадии Константинополя и шесть главных привратников дворца. Пронесли султанские штандарты, три из которых с конскими хвостами, потом еще флаги, знамя Пророка, «зеленое и странной формы». Прогарцевали лошади великого визиря, покрытые свисающими до земли попонами и сопровождаемые конюхами в одеждах под цвет попонам. Некоторые из конюхов ехали верхом, другие вели лошадь под уздцы; под одеждой на них были надеты кольчуги, на головах — кольчужные капюшоны и маленькие шапочки; вооружение — луки и стрелы. Затем — высшие правоведы империи. За ними — визири, составляющие вместе с великим визирем совет при султане — диван. Далее — глава белых евнухов, распорядитель внутренней жизни дворца, который исполнял обязанности великого визиря в тех случаях, когда тот находился в отъезде (он, собственно, в тот раз и устроил так, что великого визиря поставили во главе отправляющейся в поход армии). Рядом с ним — великий муфтий, высший религиозный сановник империи, «весьма благообразный человек с самой пышной и достопочтенной бородой, какую мне только случалось видеть в жизни», — вспоминал делла Валле, прибавляя, что туркам свойственно «судить о храбрости и уме человека по его внешнему виду и бороде».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
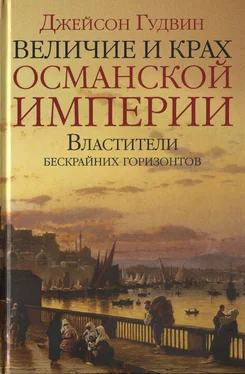

![Юджин Роган - Падение Османской империи [Первая мировая война на Ближнем Востоке, 1914–1920]](/books/26025/yudzhin-rogan-padenie-osmanskoj-imperii-pervaya-miro-thumb.webp)