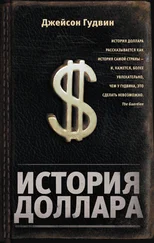Разумеется, и милые забавы тешившегося иллюзиями двора, и попытки выработать более взвешенный подход к Западу ждал кровавый конец. Дамад Ибрагим-паша изо всех сил старался пресечь распространение мрачных слухов о положении дел на персидском фронте, но шила в мешке не утаишь. В 1730 году общественное мнение наконец вынудило султана и великого визиря собрать армию в Скутари, на азиатском берегу, — но вместо того, чтобы начать поход, они принялись тянуть время, вступив в постыдные переговоры с персидскими послами и рассчитывая закончить войну, не начав.
В сентябре в Константинополе вспыхнуло восстание под предводительством албанца по имени Патрона Халиль — янычара, промышлявшего продажей ношеной одежды. Восставшие обличали роскошь, к которой утопает двор, и обычаи неверных, к которым он склоняется. Разъяренная толпа разрушила Саадабад. Султан поспешно отправил великого визиря Ибрагима на свидание с палачом, но это не помогло: вскоре его самого скинули с трона и вернули в Клетку, а султаном стал его племянник, Махмуд I, опоясанный мечом Османа 1 октября 1730 года. На несколько месяцев Патрона Халиль обрел колоссальную власть. Каждое утро он являлся во дворец, и утонченные сановники прятались по углам, дрожа от страха. Численность янычар в платежной ведомости подскочила с сорока тысяч до семидесяти. Патроне удалось сохранять осмотрительность дольше, чем кто-либо ожидал; но в конце концов власть все-таки ударила ему в голову. Когда он потребовал, чтобы мясник, который когда-то ссудил ему денег, был назначен господарем Молдавии, его авторитет сильно пошатнулся. После этого он прожил еще несколько дней, а потом был убит во дворце людьми, которые окончательно разуверились в том, что он сможет обновить османское государство и очистить его от скверны.
Османы всегда были людьми чванливыми, и это их качество никуда не делось. Мало того, теперь, когда они больше не были крестьянскими детьми, а происходили из благородных семейств, правящая элита превратилась в высшей степени замкнутую касту. Ничто не могло поколебать гордыню османов. Они полагали, что все в их империи не только больше, чем в других странах, но и гармоничнее, и интереснее. «Воины падишаха — самая могучая сила в мире; к сожалению, они страдают от недостатка пищи», — сказали как-то раз одному заезжему европейцу. Почти непрерывная череда поражений от неверных наводила наиболее проницательные умы на мысль о том, что у Запада, возможно, кое-чему следовало бы поучиться (в 1805 году османский посол во Франции презрительно писал: «Я пока еще не видел того чудесного Франкистана, о котором говорят с таким восторгом»), однако открытое выражение интереса считалось дурным тоном; Уркварт заметил, что если греки кидаются к иноземному гостю и начинают расспрашивать его о новостях на трех языках сразу, то турки сохраняют видимое равнодушие и ждут, пока им все расскажут и без расспросов. Причины поражений капыкулу предпочитали усматривать в каких-нибудь случайных отклонениях от обычаев старины. Снова и снова принимались они бороться с этими отклонениями, и вроде бы дела начинали идти на лад, но затем бдительность притуплялась, прежние беды вновь являлись, усиленные стократно, и на их преодоление уходило куда больше сил, чем прежде, — пока в конце концов вся система не треснула, словно днище поршня.
Но до тех пор все ожесточенные столкновения между группировками и кликами, вражда и зависть, которые, казалось, раздирают сословие капыкулу на части, были не более чем семейной ссорой — из тех, которые могут годами тлеть в каком-нибудь старинном и очень надменном роду. «Давай сюда печать, глупый мальчишка!» — заорал однажды в тяжелую для дворца минуту глава черных евнухов на растерянного великого визиря, и тот — человек, казалось бы, достопочтенный и в летах — покорно уступил, как уступил бы молодой зять своей грозной морщинистой теще.
По отношению к внешнему миру они обладали чувством собственного достоинства, какое бывает присуще старинному аристократическому семейству. Однажды посол Людовика XIV испросил аудиенции у великого визиря, чтобы проинформировать его о победе своего монарха над коалицией немецких государей на Рейне. Старик Кёпрюлю смерил его взглядом и ответил: «Какое дело моему повелителю до того, пес ли беспокоит кабана или кабан — пса?» Похожий ответ получил сам Людовик XIV от османского посла при своем дворе: когда король осудил поведение голландцев, незадолго до того свергших своего принца, союзника Франции, посол сухо ответил: «Для нас, османов, свергать своих монархов — привычное дело».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
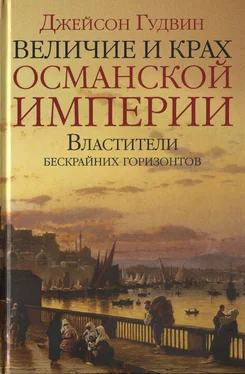
![Юджин Роган - Падение Османской империи [Первая мировая война на Ближнем Востоке, 1914–1920]](/books/26025/yudzhin-rogan-padenie-osmanskoj-imperii-pervaya-miro-thumb.webp)