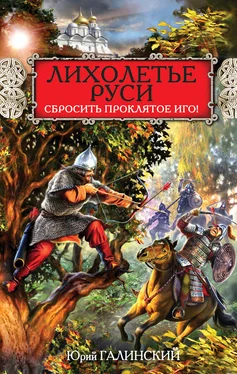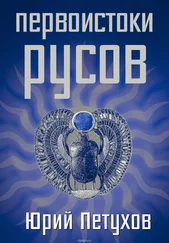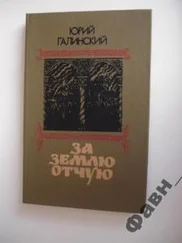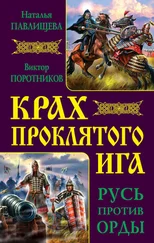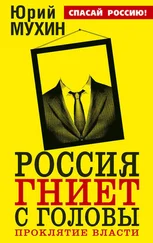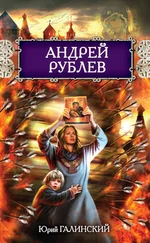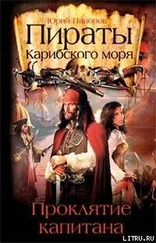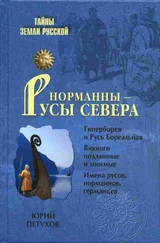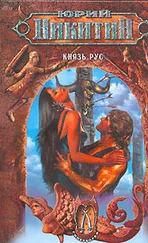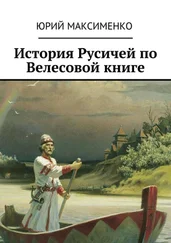Господин Великий Новгород тоже проявил непокорность, новгородские лихие люди, ушкуйники, совершили разбойничьи набеги на Кострому и Нижний Новгород. Новгородские бояре отказались дать серебро для уплаты дани-выкупа Орде. Довелось московским полкам утихомиривать строптивых новгородцев.
Воспользовавшись тем, что Москва осталась в одиночестве и вынуждена была бороться с тверскими, рязанскими, новгородскими недругами, Тохтамыш снова наложил на Русь тяжелую дань. Мало того, он потребовал прислать в Сарай заложником наследника великого князя Московского Дмитрия Ивановича — его сына Василия.
Так в тревогах, трудах и волнениях лето сменяло зиму, зима — лето. Дмитрий Иванович, не вступая в открытое противоборство с усилившейся при хане Тохтамыше Золотой Ордой, искал другие пути, чтобы выстоять, чтобы снова утвердить главенство Москвы на Руси и ослабить зависимость от татар. Началось сближение с Литвой. Правда, до союза дело не дошло, но и прежней вражды уже не было.
И все же отношения между Русью и Золотой Ордой были уже не те, что до Куликовской битвы. В духовной грамоте-завещании, составленной Дмитрием Ивановичем, было записано: великое княжество Владимирское без ханского ярлыка, как все прочие свои вотчины, он передает в удел сыну Василию…
В конце мая 1389 года Москва прощалась с великим князем Дмитрием Ивановичем Донским. Выдался по-летнему теплый, солнечный день. Воздух, напоенный горьковатым запахом черемухи и едва уловимым ароматом цветущих яблонь, был прозрачен и чист. Необычная тишина распростерлась над Кремлем, хотя улицы и площади запрудили толпы москвичей и другого люда. Непривычными для глаза казались черно-белые одежды москвичей, сменившие их повседневные пестрые наряды. Над Кремлем, над Великим посадом, Заречьем и Занеглименьем плыл печальный перезвон колоколов.
На Соборную площадь не пропускали, она была оцеплена конными и пешими княжескими дружинниками. А на Ивановской люди стояли плотной стеной. Но давки не было, все знали: когда тело вынесут из дворцовых хором и установят в соборе Михаила Архангела, каждый, кто захочет, сможет проститься с великим князем Дмитрием Ивановичем. В толпе ремесленники, торговцы, дети боярские, монахи, крестьяне, гультяи, нищие. У большинства печальные лица, кто плачет, кто сурово молчит.
Неподалеку от прохода с Ивановской площади на Соборную, между храмом Михаила Архангела и церковью Иоанна Лествичника, застыли две пары горожан; у одной из баб на руках грудняк, рядом со старшими трое детишек. На мужиках серые холстинные рубахи навыпуск и такого же цвета портки, вправленные в сапоги, у баб начавшие входить в моду темные бязевые сарафаны. Судя по одеждам, ремесленные среднего достатка. Мужчинам лет за тридцать, женщины моложе, годов двадцати пяти. Это были Гордей с Марийкой и Василько с Любашей Гоновой. Судьба-чудодейка снова свела всех вместе…
Под Волоком Ламским Гордей и Василько были ранены, дороги их надолго разошлись. Тарусского порубежника взяли к себе в избу сердобольные волоколамцы и спустя месяца три добрыми заботами выходили его. Но возвратиться на порубежную службу он не мог — рваная рана в груди от вражеского копья только затянулась кожицей, но до конца не зажила. Когда Василько окреп и снова почувствовал в руках силу, он стал понемногу столярничать и плотничать во дворе, чтобы отблагодарить хозяев. Вырезал фигурные наличники на окнах, заменил рассохшуюся дверь в избе, поставил новый забор, починил крышу. А когда наконец совсем зарубцевалась рана, у него уже и вовсе не стало охоты идти на ратную службу — полюбилось ему мирное ремесло. Он задумал податься на Москву строить ладьи и струги, чему научился еще в Сарае. Однако прежде Василько решил отыскать ту затерянную в лесах деревеньку, куда оглушенного и раненого воина приволок когда-то его конь. Хоть недолго пробыл там тогда порубежник, но крепко запала ему в душу меньшая дочь старого Гона Любаша. Он не только приметил ее, но успел пошептаться и сговориться — слово друг другу даже дали.
Непросто это было — найти в лесной глухомани Гонову деревню, но недаром столько лет прослужил Василько порубежником, в конце концов разыскал. Совсем поредела семья Гонов, старик умер от ожогов сразу после ордынского набега, Настя так и не нашлась. Осталось в деревне всего два мужика — старший сын Гона Вавила и зять Гаврилко — да четыре бабы. Когда же Василько поведал горестную весть о гибели Любима и Фрола, вовсе опечалились люди. Любимова Агафья упала в беспамятстве, едва водой отлили — очень уж ладно жила она со своим добрым, жалостливым мужем. И стало на Руси еще одной вдовой больше, а трое деток сиротами, не дождаться им уже никогда отца-кормильца.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу