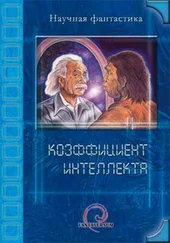— Ишь, командующий выискался…
— Политрук, а без сердца…
— Муштровщики, они все без жалости…
— Вот они, колючи розы-то…
Все это солдаты бубнили сквозь зубы и кашель, изрядно сдабривая легким матерком. И только наводчик сержант Донцов, оставшись еще утром без командира орудия и замкового — их скосило пулеметом из подбитого Донцовым танка в конце боя, не мог придти в себя и на выходку комбата психанул в открытую:
— Мы, лейтенант, и на брюхе и на карачках ползаем, когда надо. А какая нужда пехом переть сейчас? Неужто креста на вас нет?… Будете политручить таким макаром, батарейцев без сил оставите… с кем воевать собираетесь?
Комбат поправил очки, тронул зачем-то пистолетную кобуру и повторил приказ:
— По колонне передать мою команду: идти пеши!
Сам зашагал рядом, с Донцовым, пройдя с десяток шагов, тихо сказал:
— Не дуй губы, сержант, не злобись… С крестом и сердцем, конечно, и на машинах ехать можно. Не велика мудрость. А вот стыд потерять — это страшнее и позорнее.
— Не срамите солдат, лейтенант. Они и так клеймены лихом и проклятьем.
— Грешно ехать, когда твои же подзащитные идут пеши. Глянь по сторонам, и ты устыдишься.
Донцов, очнувшись, и впрямь только теперь увидел вереницу несчастных. Беженцы рваной цепочкой тянулись обочь тракта, вдоль завалившейся стены некошеного хлеба, шли от закатного горизонта к восходному в поисках пристанища и спасения. Конечные хвосты вереницы, как и арьергардные подразделения отходящих частей нередко отсекались рейдами прорвавшихся танков противника, безжалостно уничтожались огнем и гусеницами. Уцелевшие двигались дальше. Старики и старухи с иконками на груди и краюшкой хлеба в котомке шли, словно к богу, творя молитвы и прося заступничества. Желторотая мелюзга, умостившись на руках и закорках матерей, тоже плыла туда же, к невидимому заступнику. Ходячая детвора, не ропща на боли сбитых ног, разъедаемых цыпками и колким дорожным камешником, жалась ближе к тракту, к войскам, шедшим на восток, в отступление. Ребята жались к солдатам, как к родным отцам, на случай защиты от вражеских самолетов, автоматного огня парашютистов, или настигающих танков и бронетранспортеров наступающих немцев. Но защита защитой, в ней нужда при опасности. А голод ребятишек толкал к солдатам ежечасно, в любую погоду, днем и ночью, в бомбежку и в затишье. Сухарик, кусок сахара, сушеная рыбина из армейского пайка — все это тоже защищало детей от довременной гибели…
До боли знакомая картина! Но в нее Донцов переставал верить, что она, эта людская трагедия, могла быть, и есть, и почему-то должна быть… И теперь, когда комбат заставил идти пеши и смотреть на все ближе, Донцов содрогнулся — все будто началось сегодня, только что, в первый раз за все месяцы обороны и отступления. Так несносно было глядеть на беженцев, еще живых, но обреченных на тяжкие муки людей.
Из-за частых заторов на дороге, колонна артиллеристов продвигалась со скоростью пешего человека. На одной из остановок комбат Лютов приказал в кузова тягачей посадить детей и стариков. И этот приказ солдаты посчитали справедливым и уже не держали обиды на своего нового командира.
Держась за бронещиток пушки и шагая локоть в локоть с лейтенантом Лютовым, Донцов только теперь задумался о нелепом сравнении: кто кого охраняет в отступном походе — солдаты беженцев или наоборот: кто кого опережает в бегстве? И ему стало страшновато, когда вдруг показалось ему, что войска, в том числе он и его боевые товарищи, отступают куда ходче, хитрее, увертливее, или как выражался, бывало, его замковый, убитый в последнем бою: отступаем по науке и плану мудрого Кремля.
Донцов, вперив глаза в задний борт тягача, больше не хотел глядеть по сторонам, чтобы никого не видеть, ни о ком не думать. Солдаты втянулись в шаг, смирившись с приказом «идти пеши», и дотошно вслушиваясь в разговор Донцова и Лютова.
— Наш брат, солдат, всегда грешен: и когда убивает и когда сам спасается от убийства, — с горькой отрешенностью пробубнил наводчик, сам не зная, зачем он такое говорит комбату.
— Да, вина всегда с нами, — согласился Лютов.
— Вот вы говорите, что роту, в которой политручили, немцы уничтожили до единого бойца… А кто же виноват?
— Это уже вторую роту за последний месяц, — тихим голосом уточнил комбат. — А сам все остаюсь живым. Один из всех — вот чудо! Вот казнь!
— Выходит и вы грешны?
— На войне все грешны…
Комбат не стал уточнять и, уйдя от ответа, дал понять сержанту, что такие разговоры — не их уровня званий и должностей. Сам Лютов, разумеется, знал, кто повинен в разлаженной обороне, в неисчислимых потерях солдат и гибели тысяч и тысяч их подзащитных, но не защищенных ими людей. Такая разладка в обороне Отечества началась еще задолго до войны — в песнях и лозунгах, в трибунных речах вождей и в газетных писаниях теоретиков жизни, в лживых донесениях комиссаров о духе, о преданности и верности предначертаниям великого Сталина. «Ни пяди земли врагу…», «Неприятель будет бит на его же территории…», «Если враг не сдается, его уничтожают…». «Победа будет за нами…». «Мы победим» — все это обещано достичь «малой кровью».
Читать дальше