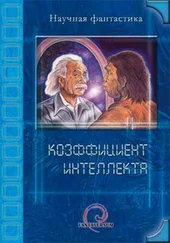Донцов долго искал себе пристанище, чтоб хоть мало-мальски скоротать ночь. Все кладбище довольно густо было устлано серой шинельной массой, было трудно найти место, чтобы распластаться и отдаться сну. А там, где еще можно улечься, напрямую доставали огни костров, толпилась тройка конвойных, надзирающих за работой пленных, мучился с непослушной лопатой Речкин, на могильном камне мозолил глаза автомат…
* * *
Прокравшись к терновому подросту, куда слабее всего доставал костровый свет, Донцов было торкнулся в дыру под кустами, в сырую листвяную мякоть, но там оказался другой солдат. Может, уже умерший от ран. Не выдюжил, бедолага, и одной пленной ночи. Денис хотел выволочь его, чтобы занять место, но раздумал. Маленько потеснив солдата, лег рядом. Такое — спать вповалку с умирающими — случалось уже, в окопах. А на погосте — какая разница: с кем лежишь. В любой час и сам можешь стать неживым… С этими мыслями и провалился Донцов в пропасть сна, как в глухую глинистую могилу.
Не слышал он ни стона раненых, ни ночных вскриков ночевавших не на своем месте кладбищенских птиц, ни солдатских матюгов в душу Речкина, который потел сам и понуждал потеть бойцов на поддержке костров. Караульным немцам нравилось, как русский «капрал», поднимая смену за сменой пленных, строго и чинно держал порядок — неугасимо светились охранные костры, покойно и покорно на могилках и меж ними спали солдаты, ни единой попытки побега… Где-то на половине длиннющей ночи октябрь сдался ноябрю — понесло сырым и студеным ветром. В аспидной тьме, заваливая багровые лоскуты костров на сторону и гоняя от стены к стене запахи горелых снопов, ветер хозяевал, как хотел. Словно печеным домашним хлебом забило голодный рот Донцова, и тот с оскомным клекотом в горле непрестанно глотал слюну и никак не мог насытиться.
А когда кончились снопы и хлебные запахи отнесло за кладбище, стали палить кресты, разнотравную сушь и всякий кладбищенский хлам. И тут же сник и поблек росплеск сухих огней — кресты не солома. Набрякшие земной влагой, они не давали того роскошного света и пламени, как снопы, больше чадили и воняли, казалось, чем-то церковным. Дым, прижимаемый ветром меж каменных стен, мешался с туманной моросью, тяжелел и ниспадал на могильные холмы, на шинели пленных, добирался до самых глоток солдат и душил их до закатистого кашля. Зашевелилась, зазыбилась серая масса — того и гляди она хлынет валом через стены и ворота. Поди, удержи потом этакую силищу! Не хватит ни автоматов, ни патронов…
Конвоиры, почуяв неладное, криком кричат на «рус-капрала» Речкина, а тот, ладясь под строгости немцев, тоже безокоротно орет на солдат у костров, требуя пылкого огня и света. Мотоциклисты все чаще и чаще включали фары, шарили по гребню стен пронизывающими лучами, устрашая пленников и снимая страх с себя.
Под терновник, где ночевал Донцов, дым не доставал и ему спалось, как ни в какие ночи тысячеверстного отступного пути. До переполоха, словно в безмятежных младенческих снах, его занесло было в занебесье — посмотреть, как живется на том свете. Но, не встретив ни единой души, ни единого земного предмета — там не было даже войны! — разочарованный, он падучей звездой спустился назад, в наземный мир, и, очертя голову, пустился в странствие по белу-свету. Поначалу какая-то желанная сила его привела в родной дом. Мать накормила духмяным ситником, насовала коврижных ломтей в противогазную сумку, предварительно выбросив из нее гранаты: «На кой ляд, сынок, тебе эти бонбы? В хлебушке — сила твоя…», — и выпроводила сына на задворки, в огороды, чтобы ушел, как и пришел, целехоньким. В одном недоумевал Донцов: почему это мать не пустила его в избу, а кормила в сараюшке? От каких глаз хоронила его? Не чужим же хлебом потчевала? Да и ладно бы — солдату не до комфорту, но другая мука терзала Дениса — не повидался с женой Аленой и дочками Катей и Настюшкой. Голодный, он не мог представить себе, что нельзя ему быть в тот час в горнице. Там пировала пьяная немчура. Ворвись он, безоружный, — быть беде и порухе всему дому… Нельзя, так нельзя — передали с рук на руки «желанная» сила опять «нечистой» силе, и та повела его тем же путем, отступая, проколесил Донцов со своей пушкой пол-России. За свой невеликий калибр — с донышко винной стопки — «сорокопятка» имела прозвище «Прощай, родина!». Нарекли ее таким печальным прозвищем сами солдаты. И настоящую цену этой пушке знавала лишь пехота да сам Денис со своим расчетом. Когда нету ничего, и «сорокопятка» противостояла, как могла, всем калибрам могучей Европы.
Читать дальше