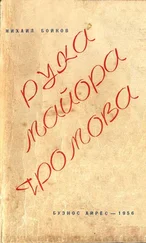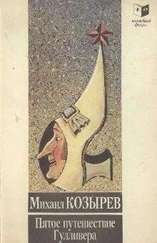Помыв руки, он поел, похвалил еду, приготовленную Чебахан, уселся на туловище мертвого явора и стал смотреть в розовеющее небо, по которому, взлетев со скалистого обрыва, еле слышно повизгивая, черными стрелами проносились стрижи. Из двери сакли вышла Абадзеха, навстречу ей промелькнула мимо него Чебахан. Абадзеха опустила к земле куклу, повела ее перед собой, как ведут ребенка, и запела песенку, которую поют матери и бабушки, когда обучают малышей ходить:
Мима, мима, сделай шаг, мой мальчик,
Мима, мима, шагни, мое солнышко..
Абадзеха прошлась по поляне, забрела за кустарник, Озермес поднялся посмотреть, куда она пошла, и увидел, что она сосредоточенно разглядывает могильный холмик. — Белорукая! — позвал Озермес. — Ты хотела покормить нашу сестру. — Чебахан побежала к Абадзехе, обняла ее за плечи и повела к летнему очагу. — Пойдем, сестра моя, пойдем, ты голодна, а я сварила жирный ляпс. — Ляпс, — повторила Абадзеха. — Да, сестра моя. — Сестра, — эхом отозвалась Абадзеха. Они прошли за спиной Озермеса к столику. Какое-то время молчали, потом он снова услышал их голоса. — Сестра? — спросила Абадзеха. Чебахан обрадованно ответила: — Да, да, сестра твоя, меня зовут Чебахан, а он твой брат, Озермес. — Он почувствовал, как Чебахан смотрит ему в спину, но не повернулся, догадавшись, что она ждет от него похвалы. — Че-ба-хан, — по слогам протянула Абадзеха, — О-зер-мес. — Она не понимала того, что говорили ей, хотя была таким же человеком, как Чебахан и Озермес, такой же частью окружающего, как и они. Каменный дрозд дрожит, трепещет серыми крылышками, радуется своему многоголосию, когда трещит по сорочьи, воркует голубем и заливается подобно соловью. Абадзеху окружают синие горы, зеленые деревья, белые облака, в желтеющем небе то вдали, то вблизи от нее лают шакалы, щебечут ласточки, произносит ласковые слова Чебахан, а она ко всему слепа, глуха и существует в том, неведомом мире, куда нет доступа и Озермесу, и Чебахан, и шакалам, и ласточкам, никому из живущих на земле. Где он, тот мир, каков он, есть ли в нем свет, тепло и радость, или пуст, темен и мучителен, как ночная боль? Вернется ли Абадзеха оттуда, либо навсегда останется там, а ходить, есть и спать будет рядом с Озермесом и Чебахан, не ведая, что до конца дней своих станет напоминать им о прошлом, о том, от чего они ушли? Озермес приметил, что туман забвения иногда, лишь на один быстрый вдох, улетучивается из глаз Абадзехи, но, едва вернувшись в этот мир, она тут же, со скоростью пули, отдаляется от него. Если б удалось изгнать туман из ее глаз надолго, подобно тому как солнце и ветер растопляют весной снег на жаждущем тепла лугу и оберегают его от холодов до осени, может, раненая душа Абадзехи выздоровела бы и она снова стала бы такой, какой много лет и зим ходила по земле. Чебахан уговорила Абадзеху помыться, заведя песню о дожде. А если попробовать вызвать ее из того мира другой, знакомой ей от рождения песней? Озермес оглянулся. Чебахан что то жалеючи говорила Абадзехе, а та укачивала куклу и, наморщив лоб, непонимающе смотрела ей в рот. Он встал, вынес из сакли шичепшин, уселся на мертвом яворе, подтянул ослабшие струны, повел смычком и запел древнюю песню, которую знал от отца и которую они три или четыре зимы тому назад пели на свой лад в абадзехском ауле. Вскоре послышались легкие шаги. Абадзеха, обойдя упавшее дерево, опустилась на колени, села на пятки, положила на траву рядом с собой куклу и, не мигая, впилась в лицо Озермеса пустыми фиалковыми глазами. Чебахан остановилась сбоку от них и, слушая песню, смотрела в даль неба, на склоне которого зажглась Вечерняя звезда.
Арада, кого мы еще не видели,
Арада, о ком мы наслышаны...
Озермес пел и за себя, и, понижая голос, за хор. У абадзехов песня эта была короче, да и содержанием отличалась от шапсугской. Но отец говорил, что настоящий джегуако должен знать, как поют ту или иную песню и шапсуги, и кабардинцы, и бжедуги, и что каждое племя, внося в песню свое, только украшает ее, как искусные мастерицы, вышивающие разноцветными нитками узоры на нарядном женском платье. Каждая вышивает по своему, но платье все равно получается адыгским, и ни с каким другим его не спутаешь. Память у Озермеса была волчья, раз услышав песню, он запоминал ее, и в голове его уже толпилось не меньше песен, чем росло трав на лугу, хотя теперь это уже не имело значения, подобно тому как для беркута, прикованного за ногу цепью к столбу, нет никакого толку в размахе его распростертых крыльев. Не потому ли он давно не поет, что у него больше нет слушателей? Кому петь — Чебахан и женщине, потерявшей память и имя? Или птицам, зверям, деревьям, ручьям и скалам? Им нужны другие песни, а не те, что джегуако пели, сохраняли и сочиняли для своего рожденного Солнцем народа...
Читать дальше