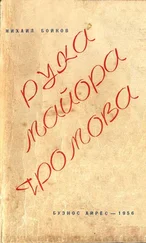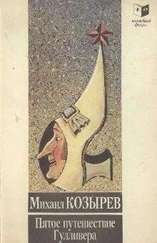Бывают воспоминания раннего детства, остающиеся, как говорят, до самой старости. Таким, самым глубоким, был для меня следующий случай: лет трех или пяти, весной, я вышел из парка и, с любопытством разглядывая все окрест, дошел до пахотного поля. Притомившиеся мужики сидели у межи. Один из них, седобородый, с темными глазами, поднялся, шагнул ко мне и с возгласом «А а, барчук!» схватил меня и поднял. Вижу отчетливо его грудь, за расстегнутым воротом, ниже загорелой шеи, под бородой, она была белой, и волоски на ней тоже были белые. От него крепко пахло потом. Во рту не хватало впереди двух зубов. Мозолистые ладони сдавили мне бока. Я истошно закричал от страха, забился, он отпустил меня, и я кинулся бежать. Оглянувшись — не преследует ли старик, — увидел глаза его — в них были страдание, укор, обида...
Ночью он приснился мне, я заорал, проснулся, нянька тоже вскочила, принялась успокаивать меня. Я ничего не сказал ей, потому что, проснувшись, вспоминал уже только укоризненный, страдальческий взгляд мужика и мучался от стыда. Того мужика я видел во сне не единожды, каждый раз кричал от испуга, а потом мучительно стыдился. Мать и нянька решили, что я заболел. На меня и с уголька сбрызгивали, и к доктору возили... Старик черкес походил на того мужика. Мне неприятно стало смотреть на него. Я отвернулся, сказав, что не буду брать коня.
Но Кожевников пристал как банный лист, уверяя, что лошади цены нет и что он ее в два дня выходит. Как потом выяснилось, конь стоил не менее двухста рублей. Я отдал за него пять. Старик, глядя на коня и показывая на его больную ногу, что то снова втолковывал Кожевникову, тот кивал, улыбаясь. Старик ушел. Конь стал рваться из наших рук, лягаться и призывно ржать. Мы еле его удержали. Мне он чуть не прокусил руку. Поглядев вслед старику, я вновь, как в детстве, застыдился, но утешил себя обычными в таких случаях рассуждениями: не я, так другой, и тому подобное...
У меня теперь появилась забота. Кожевников лечил коню ногу, смазывал ее какой то мазью, обмывал теплой водой, а я приучал коня к себе, носил ему сахар, разговаривал с ним, поглаживая по шее. Потом, когда хромота у коня прошла, я сам, не доверяясь никому, стал купать его, обтирал руками, массировал тело, потом обливал холодной водой, что бы он укреплялся. Коня звали Джуга, что, как мне перевели, значило Ветер. Я, не умея выговаривать кличку, звал коня Джубгой. Круп и холка у Джубги были на одной высоте, плечи и грудь сильные, мускулистые, ноги и голова сухие, глаза буквально горели, что являлось признаком породы и здоровья.
Когда познания мои в коневодстве немного пополнились, я узнал, что мой Джубга был кабардинской породы «щагди», считающейся у черкесов лучшей. Он был ниже ростом очень красивого адыгейского «жирашти», но менее трясок и очень вынослив, мог почти без корма нести всадника хоть десять дней.
Пил Джубга мало, и это меня встревожило, прежняя моя кобыла выдувала за раз чуть ли не два ведра. Однако оказалось, что породистые горские скакуны обходятся небольшим количеством воды.
Освободившись от службы, я шел к коновязи. Джубга издали приветствовал меня звонким ржанием, с нетерпением перебирал ногами, косил своим огненным глазом. Получив свой кусочек рафинаду, он принимался баловаться, фыркал мне в лицо, притворно покусывал за плечо или за руку. Я так же притворно сердился, взнуздывал его, седлал черкесским седлом с высокими луками и видел, как от нетерпения шелковистая кожа на коне вся играет и вздрагивает. Я садился, и он нес меня от бивака, выгнув шею и распустив хвост. Нас провожали завистливыми взглядами. В шпорах и плети Джубга, как и все черкесские лошади, не нуждался, я запросто обходился шенкелями.
В течение получаса воли Джубге не давал, сдерживал его, заставляя идти шагом, потом отпускал поводья, и мы в восторге летели по лугам, возносились на кручи, мчались под уклон, все более и более радуясь своей вольной скачке, сменяя рысь на галоп и снова на рысь. В такие часы я бывал почти счастлив. Иногда терял дорогу, но, не тревожась, бросал поводья на шею коню, и он вез меня к дому. Бывало, возвращались мы поздно вечером, мне выговаривали за опоздание, Кожевников ворчал в бороду, но я никого не слушал. Черкесы редко стреляли по лошадям, а за себя я не боялся. Почему то казалось, что в степном или лесном мире, напоенном запахом цветов, безмятежно спокойном, мирном, с которым я и конь словно бы сливались, ничего худого случиться не может. «А если вдруг, — не веря себе, рассуждал я, — Джубга раненным или мертвым, но доставит меня обратно».
Читать дальше