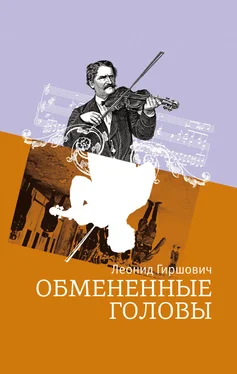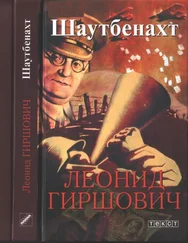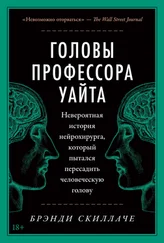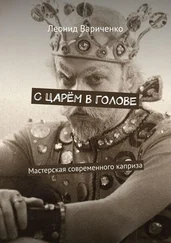136
Гейхал-ха-тарбут – концертный зал в Тель-Авиве.
137
А почему бы не запретить «Игру воды»… – Фортепианпая пьеса Мориса Равеля (1875—1937), французского композитора-импрессиониста.
138
…бесконечные вариации на тему Аполлона и Гиацинта… – Аполлон полюбил прекрасного юношу Гиацинта. Влюбленный в него же бог ветра Зефир из ревности подул в тот момент, когда Аполлон с Гиацинтом метали диск. Диск отклонился и насмерть поразил Гиацинта в голову.
…И пусть здесь прозвучит тристанов аккорд… – Музыкальный энциклопедический словарь называет его по-немецки «Тристан-аккорд» (поставив почему-то по-русски ударение на «ан») и пишет: «Первый аккорд оперы “Тристан и Изольда” Вагнера (такт 2), один из символов романтической гармонии. Характеристическая звучность “Тристан-аккорда” (энгармонически равен малому септаккорду) – обобщение атмосферы всей оперы, романтического страстного томления». (Некоторые музыканты считают тристанов аккорд полууменьшенным септаккордом к двойной доминанте с задержанием. По замечанию Брайнина-Пассека, этот же аккорд встречается в ми-минорной прелюдии Шопена.) Во что обошелся нам этот аккордовый «лейтмотив», вернее, гармоническая последовательность, где тема страсти накладывается на тему томления, можно догадаться уже по названиям обеих музыковедческих работ, упомянутых в цитируемой выше заметке: «Романтическая гармония и ее кризис в “Тристане” Вагнера» и «Тристанов аккорд и кризис современного учения о гармонии». Вагнер покусился – причем с большим успехом – на святая святых европейского музыкального звучания: на тональность, на принцип «гармонического покаяния», выражаемого неизбежным разрешением диссонанса в консонанс, что является эстетическим эквивалентом победы добра над злом. Тем самым был подорван принцип «спасения», лежащий в основе христианской музыки. Полувеком позже Шенберг доведет до конца это вагнеровское начинание. Достигшая апогея в эпоху барокко, музыка утрачивает отныне свою уникальную черту – жанровую самодостаточность, и превращается снова в придаток более общих культурных явлений. Это одно. Другое: помимо вышесказанного, тристанов аккорд еще является символом неутоленной страсти, может быть, даже обоюдной и оттого только более мучительной. Говоря несколько ранее, что Томас Манн целиком вышел из тристанова аккорда, я имел в виду не просто его вагнерианство, его абсолютную пронизанность Вагнером, безусловно же прошедшимся своими когтями по всем страницам «Волшебной горы», «Доктора Фаустуса», да и вообще по всему его творчеству. Я имел в виду и тот запрет отдаться на волю обуревавшей его гомоэротической чувственности, о которой до недавнего времени можно было лишь догадываться. Повисающие в воздухе томление, страсть благодаря Вагнеру обрели свое гармоническое выражение, и литераторы – именно литераторы, а не музыканты – этим поспешили воспользоваться. Вспомним «Человека без свойств» Музиля, где Кларисса «неделями отказывала в близости Вальтеру, если он играл Вагнера. Тем не менее он играл Вагнера; с нечистой совестью, словно это был мальчишеский порок». Но естественней все же допустить, что зависимость была обратная. Так что, возвращаясь к Кристиану Кугльбауэру и его племяннику Готлибу Кунце, согласимся с биографом последнего: и пусть здесь прозвучит тристанов аккорд.
139
Так начинается путь Готлиба Кунце – композитора. – В биографии Г. Кунце, как, впрочем, и любого другого человека, интересны не столько факты, сколько возможность их символически интерпретировать. Тот же «Марш хайнбюндлеров», о которых в энциклопедии читаем: «Геттингенское литературное объединение (кружок поэтов), называвшееся еще “Наinbund”, “Лесное братство”, в честь оды Лессинга “Der Hügel und der Наin” – “Холм и дубрава”, составилось в 70-х годах XVIII в. из поклонников Клопштока и противников французского влияния в немецкой литературе». Не то важно, что детский опус Кунце называется «Марш хайнбюндлеров», а то, что у Шумана в «Карнавале» есть «Марш давидсбюндлеров» («Давидсбунд», или «Давидово братство», как обычно это переводят на русский язык, был учрежден в шутку Робертом Шуманом в противовес «филистимлянам» – филистерам, косной бюргерской массе). И вот двенадцатилетний Кунце, давая своей пьесе название «под Шумана», переиначивает его – уже в столь юном возрасте – на националистический лад. Или взять родной город его матери в соединении с именем его отца (именно в Линце вырос сын некоего Алоиза Шикльгрубера), что ляжет зловещей тенью на всю жизнь композитора, в которой реальность и фантасмагория переплелись столь же тесно, как в репертуаре его сестры Агаты партия мальчика-гения из моцартовской «Волшебной флейты» переплелась с партией мальчика-раба из несуществующей комической оперы Зуппе – не иначе как Франц фон Зуппе (1819—1895), автор множества комических опер, нашел, что «Последний день Помпеи» – это не смешно. Особенность эта проявилась и в том, что наряду с реальными людьми – Антоном Брукнером, подобно Бетховену и Малеру не сумевшим преодолеть роковой рубеж в девять симфоний, или польским пианистом Теодором Лешетицким – жизнь Кунце населяли призраки типа Адольфи, от которых за версту несет булгаковским крысиным ядом. Касательно же «зловещей тени», то чего стоит один только текст, вложенный молодым композитором в уста «мощного унисона басов»: «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста: они развращают целые домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти». (Послание к Титу.) Дальнейшие произведения Кунце являются, в сущности, фотографическими негативами всего, что делает Рихард Штраус – старый его приятель по мюнхенским девяностым. Судите сами. Рихард Штраус пишет оперу «Женщина без тени», Кунце немедленно отвечает ему оперой «Женщина в тени», Штраус пишет «Молчаливую женщину», Кунце – «Болтунью», Штраус – «Саломею», Кунце – «Обмененные головы», Штраус – «Арабеллу», Кунце – «Анабеллу», Штраус – «Ариадну на Наксосе», Кунце – «Покинутую Дидону», Штраус – «Электру», Кунце – «Медею». Даже такое, казалось бы, лирическое сочинение, можно сказать, интимное переживание в звуках, как «Дон-Кихот и Дульсинея», симфония-концертанте для виолончели, скрипки и симфонического оркестра, берет «на абордаж» одноименные штраусовские «фантастические вариации на рыцарскую тему». Говоря о том, что в биографии Кунце факты интересны прежде всего своим символическим подтекстом, рядом удивительных совпадений, перекличек, в первую очередь хочется указать на девичью фамилию его жены: Шелоге. Вера Шелоге… вдруг преображающаяся в «Боярыню Веру Шелогу» – и идишской интонации как не бывало. Автор одноактной «Веры Шелоги» (пролога к «Псковитянке») – кстати, учитель Стравинского – Римский-Корсаков в бытность морским офицером совершает плавание на клипере «Алмаз» в составе русской эскадры к берегам Бразилии, о чем с изумительным настроением рассказывает в своих воспоминаниях. Если Кунце, прервавший свое затворничество в верхнеавстрийском Шпитаке, где его застало землетрясение Первой мировой войны – в придачу к глубокому личному потрясению, – отправляясь на пароходе «Диаманте» в Рио-де-Жанейро, был поражен «свечением ночного океана» и пишет «Светочи моря» – как в русском переводе названы «Мееrleuchten» Адриана Леверкюна (пер. С.Апта) – то у Римского-Корсакова впечатления от того же плавания на одноименном корабле (см. Н.А.Римский-Корсаков, «Летопись моей музыкальной жизни», гл. V – есть совпадения даже текстуальные) найдут выход в «Шехерезаде». Словом, все, все сплетается в какой-то один удивительный клубок.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу