— А Фрада, который «не такой»? — напомнил Гау-Барува.
— «Из-за хромого осла караван не остановится». Фрада — один на сто тысяч. Он плохо кончит, я предчувствую. Смерть его будет ужасной изменников саки не щадят. Саки — народ молодой, дружный, сплоченный. У них человек человеку — друг и брат. И не на словах, а на деле, брат Гау-барува! Именно в этом их мощь. Из всех стрелков на свете саки самые искусные. Это воины, не пускающие стрел наудачу. С таким народом лучше жить в дружбе, чем во вражде. Подумайте, персы! Подумайте над моими словами. Осторожность — не грех. Благоразумие — не преступление. Сказано: «Бежать вперед — беги, но и назад поглядывай».
Торговец умолк. Персы растерянно переглядывались, напуганные грозной правдой его хлесткой речи.
Гау-Барува сорвался с места.
— Негодяй! Сам ты отступник и предатель! Не слушайте его, други. Разве не видите вы, что он собирается одурачить нас? Хочет дыму в глаза напустить, чтобы прикрыть грязь помыслов тайных! Я заметил — он быстро снюхался с Томруз. Ему, видите ли, выгодно с нею торговать! А нам-то что до твоей выгоды, сын праха? Мы печемся о благе великой Айраны. И не царю царей, богоданному Курушу, бояться двуногих собак. Бояться саков оборванный сброд, вооруженный тростниковыми стрелами? Ха! У них даже панцирей путных нет. Пятнадцать дней — и мы разнесем сакскую орду вдребезги. Пожалуй, и мечей не придется вынимать. Зачем? Для чего? К чему? При виде касок наших тяжелых, при виде медных кирас, больших щитов, конских нагрудников, длинных копий, огромных таранов и громоздких осадных башен саки разбегутся, кто куда. Попрячутся в норы, как суслики при виде ястреба. Если уж говорить начистоту, брат Утана, то вовсе не в саках и не в сакских верблюдах дело. Плевать на саков! К дайву саков! Зачем нам их дырявые шатры? Да, не в саках дело. А в том дело, что шайка этих конных бродяг оседлала, как нарочно, дорогу в богатейший Хорезм, дорогу в благодатную Сугду. Из Хорезма и Сугды идут пути на северо-запад, к великой реке Ранхе [14] Ранха, Ра — река Волга
, на север, в Страну Мрака, где леса кишат соболями, и на восток, в Золотые горы, к сокровищам, узкоглазых царей. Усядемся на перекрестке этих путей — сколько зерна, рыбы, рабов, мехов дорогих, меда, меди, олова, золота, серебра и разного прочего добра будет оседать у нас в руках! На одних пошлинах можно удвоить казну. Восток неизмеримо богаче Запада. Возьмите хотя бы Бактру. С маленькой Бактры мы получаем 360 серебряных талантов [15] Талант серебряный — 1050–1800 рублей
дани — то есть, на десять талантов больше, чем с Палестины, Сирии, Финикии, Ассирии и Кипра, вместе взятых. С Турана же удастся содрать три тысячи талантов — втрое больше, чем с Бабиры и Нижнего Двуречья! Вот где настоящая торговля, брат Утана — брат «на словах», а не «на деле». Удивлен? Поражен? Не думал о таких возможностях? Еще бы! Ты — мелкий купчишка, Утана, мысль твоя не может подняться выше горшка, мир твой — не шире бычьей шкуры. Разве государь против торговли? Нет. Он против нестоящей возни с горшками и шкурами. Государь — за крупную торговлю. Дай нам только добраться до Сугды и Хорезма — и ты увидишь, что за дела там развернутся! Но, пока мы не разгоним аранхских саков, Хорезм, Сугда и земли позади них закрыты для нас наглухо, как подвалы израильских купцов для грабителей. Потому-то мы и должны, не откладывая, погромить кочевья за Аранхой.
— Так! — воодушевился Куруш. — Пылкая речь соратника принесла ему облегчение, смела со лба тень сомнений, внушенных Утаной. — Хвала тебе, Гау-Барува! Ты мудр, как удод.
— Я слышу все это наяву, или сплю, или брежу, сижу среди взрослых или среди детей? «Разогнать, погромить…» Да в своем ли вы уме, люди? Неужели до вас никак не может дойти, с кем вы хотите связаться? Нельзя же находясь во главе такого великого государства, рассуждать подобно бесшабашному гуляке-забияке. Боже мой, есть тут хоть один человек, способный мыслить серьезно? Образумьтесь!
— Хватит болтать, Утана! Или ты с нами или против нас. Если с нами пойдешь за Аранху. Если против…
Куруш медленно приблизился к Утане и навис над ним, будто собираясь клюнуть крючковатым носом в темя.
Рука царя продолжала дзиркать ножом о точило. При каждом рывке уши дикой ослицы, чуявшей непоправимую беду, то сходились, то расходились, как ножницы. На каждый скрежещущий звук ножа сердце степной красавицы отвечало гулким ударом. Когда визг железа стихал, оно испуганно замирало. Уже? Пока точат нож, ослица жива. Что будет, когда его перестанут точить?
Читать дальше
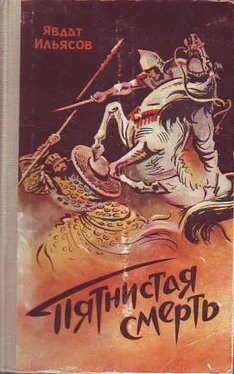






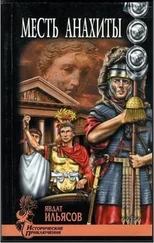


![Явдат Ильясов - Исторические романы и повести [Книги 1-9]](/books/415171/yavdat-ilyasov-istoricheskie-romany-i-povesti-knigi-1-9-thumb.webp)
