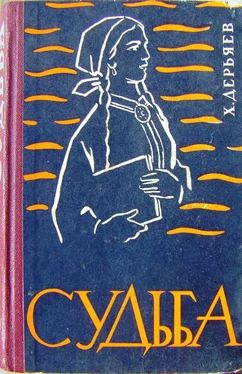— Всё это правильно, не спорю, — сказал Нурмамед, внимательно слушавший племянника. — Свободу мы получили, хотя, по правде говоря, обращаемся с ней пока ещё, как меймун с кетменём: где по земле ударим, а где и по собственной ноге. — Он повозился, устраиваясь поудобнее, потёр ладонью ноющую культю, усмехнулся — Я, конечно, в более выигрышном положении, чем ты: нога у меня одна — вдвое меньше шансов, что по ней нечаянно стукнут. А в общем ты, племянник, прав: Бекмурад-бая и всех остальных не гнуть, а ломать надо, под самый корень рубить и корень выкорчёвывать. Полностью я на твоей стороне, племянник. И всё же в одном ты меня не убедил.
— Упорный ты, дядя, как саксаул. Не гнёшься. Гляди, не сломался бы, как он.
— Чинар тоже упорный — до самого неба растёт. А я не для спора — я для справедливости говорю.
— В чём же твоя справедливость?
— А в том, что треснутая пиала не равноценна целой. Она, конечно, тоже пиала, но — с трещиной.
— Может, там не трещина, а только царапина?
— Трещина, племянничек, трещина, уж тут ты поверь мне на слово! — оживился Нурмамед. — И ещё подумай: стоит ли черпать из казана, в котором плавает муха, когда рядом сколько угодно чистой еды.
— Дохлая муха кипящего казана не осквернит.
— Пусть так. Но от сознания, что муха, попавшая в горячую пищу, издохла, мой аппетит не улучшается. Нет, не улучшается! Ты прикинь, племянник, сколько рук трогали её, эту сбежавшую, — Нурмамед сжал левый кулак, стал поочерёдно разгибать пальцы, начиная с мизинца: — В доме Аманмурада — жила, у ишана Сеидахмеда — жила, с тобой — была, в город сбежала — к Черкез-ишану пришла, потом поселилась то ли у русской, то ли у татарки, теперь — в Палтараке веселится. Видал? Пальцев на руке не хватает сосчитать все двери, в которые заглядывала эта Узук!
— Не она заглядывала, дядя. Чёрное счастье её заглядывало.
— Хе! Твоя рубашка тут сидит, а тебя нету, да?
— Рубашка износится — выброшу её, а сам каким был, таким и останусь. И чёрное счастье Узук в конце концов вернётся к тому, кто соткал его и надел на бедняжку. От того, что курица выроет в навозе жемчужину и отбросит её своей грязной лапой, не станет ни жемчужина грязнее, ни куриная лапа чище. Узук, дядя, умеет не только искать пристанища, она умеет и любить, и ненавидеть, она умеет бороться за свою долю!
— Бай бо! — сказал Нурмамед. — И жемчужина она у тебя, и пальван могучий. Вознёс ты её, парень. Высоко вознёс. Я гляжу, для тебя если и есть у туркмен красавица, так это одна Узук. А светит, парень, не только уголёк, светит и лампа, и костёр, и солнце.
Берды внезапно расхотелось спорить. Он и до этого поддерживал разговор как по обязанности. Те слова, которые он произносил в защиту Узук, почему-то не трогали сердца, не волновали, не вызывали никаких воспоминаний, желаний. Просто катились себе и катились — как горошины из лопнувшего мешочка. Его убеждённость шла не от чувств, она была суховатой и холодноватой, хотя он и не осознавал этого. Он говорит то, во что искренне верил и что готов был всемерно отстаивать, но вдруг понял, что ему больше не хочется говорить, что он устал и с удовольствием посидел бы один. Полежал бы, вытянувшись на спине во весь рост смежив глаза и ни о чём, совершенно ни о чём не думая.
— Ты не прав, дядя, — вяло сказал он. — Говорить о человеке каков он есть не значит превозносить его. И красавица — понятие тоже относительное. Красотой девушку наделяет не природа, а тот, кто полюбит её. Слыхал историю про Лейли и Меджнуна?
— Слыхали такую.
— И ты знаешь, что Лейли была совсем не красива?
— Наоборот. Красавица была, как луна четырнадцатого дня.
— Нет, дядя, не была. Она была так себе, смугленькая гырнак [1] Гырнак — рабыня.
. А Меджнун полюбил её. Он бродил по горам и долинам, плакал о Лейли и прославлял её красоту. Когда услышал об этом падишах, он велел привести Лейли, а увидев её, удивился, чем могла она приворожить Меджнуна. «У меня тысячи таких, как ты, и тысячи во много раз лучших!»— воскликнул он. А Лейли сказала: «Взгляни на меня глазами Меджнуна — и ты убедишься, что нет под луной равной мне красавицы».
— Хей, хитрая, оказывается, гырнак, — одобрительно произнёс Нурмамед.
Он собирался добавить, что история эта имеет самое непосредственное отношение к его племяннику, который, подобно Меджнуну, принимает за действительность то, что создано его воображением. Но в этот момент он увидел, что к ним, торопливо пробираясь между сидящими в чайхане и улыбаясь в полный рот, направляется незнакомый человек, и племянник глядит на него с таким выражением, с каким смотрят на в общем-то безобидную, вроде жабы, но противную тварь.
Читать дальше