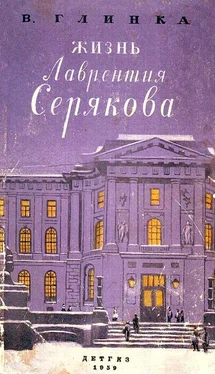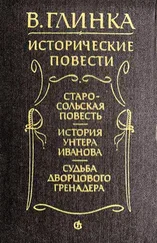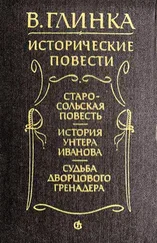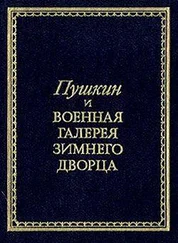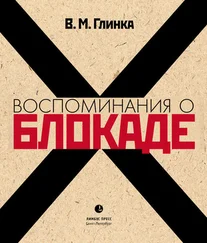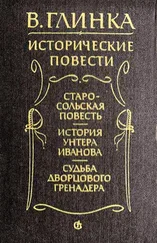И все-таки Серяков очень волновался. То ему представлялось, как, может, через неделю будет рисовать в каком-то большом, светлом зале Академии художеств, то вдруг приходила уверенность, что барон найдет его желание дерзким и отнимет даже те льготы, что дал своей властью Попов.
Наутро он сидел на своем месте, тревожась куда больше, чем в памятный день перевода из писарей в топографы. Пробило одиннадцать — время, когда полковник возвращался с доклада.
— Серяков! Зайдите ко мне! — крикнул Попов из коридора.
Плохо! Если бы все прошло гладко, то, уж наверное, полковник тотчас, в чертежной, огласил бы приятную новость. Лаврентий одернул мундир и рысью перебежал коридор.
Попов сидел за письменным столом, лицо его было красно и расстроенно.
— Куда там! — сказал он на вопросительный взгляд Серякова. — И слышать не хочет! Думаю, не иначе, как князь Шаховской ему раньше меня по-своему доложил… Начал с насмешек: «Этак вы своих топографов в лицеи да в университеты определять начнете! У вас не унтера, а все поэты да художники!» А потом уж просто бог знает что наговорил. И записку мою не дочитал, в корзинку бросил… Жаль, но сейчас, видно, ничего не поделаешь… Подождем, подумаем…
Не успел еще взволнованный Лаврентий дойти до своего места в чертежной, как в дверь заглянул рассыльный солдат:
— Топографа Серякова к его высокопревосходительству! Живо!
Лаврентий почувствовал, как кровь отливает от лица. Вот оно! Хорошо Кукольнику говорить: начальство похвалит…
Кто-то из товарищей подал ему каску, другой застегнул портупею, третий почистил мундир.
Уже вполне владея собой, но с сильно бьющимся сердцем вошел он в полутемную прихожую аракчеевского дома. И сразу сквозь раскрытые двери увидел барона Корфа. Одетый в полную парадную форму, с орденами, звездами и красной лентой через плечо, видно совсем готовый ехать к высшему начальству, старый генерал нетерпеливо прохаживался по блестящему паркету. На стене за ним висел большой, в рост, портрет Аракчеева.
Ступив за порог, Лаврентий выкатил грудь, твердо и четко, с коротким звоном шпор приставил ногу и замер. Барон остановился и посмотрел на него. Лицо старика залилось бурым румянцем, крашеные усы торчали, как деревянные.
— А ну, подойди-ка ты сюда, академик! — грозно позвал он.
Серяков сделал несколько шагов и снова замер в предельной строевой неподвижности. Генерал расставил ноги и заложил за спину сжатые кулаки в белых перчатках.
«Сейчас будет бить», — подумал Лаврентий.
Корф медленно смерил его с ног до головы злобным взглядом.
— Солдат! С чего ты взял мечтать об академии? — спросил он. Выдержал паузу и продолжал более высоким голосом — Давно до тебя добираюсь, «господин Серяков, известный художник»! «Господином» величаешься? В баре лезешь?.. А я сейчас велю спороть твои дурацкие галуны и загоню в арестантскую роту! Суток не пройдет, как будешь в такой академии, откуда вовек не выдерешься! Прикажу перевести под Харьков, в хохлацкую деревню, и чтоб не выпускали оттуда лет пять… Да как ты, сукин сын, посмел такое задумать?..
Он смотрел не отрываясь в помертвевшее лицо топографа. Прошла минута, а может, и десять в полном молчании. Внятно тикали большие часы рядом с портретом Аракчеева да в печке потрескивали дрова.
— П-шел вон! Собирайся в дорогу по этапу! — скомандовал генерал.
Лаврентий не помнил, как вышел, как пересек Кирочную. Не слышал, как выругал его кучер выехавшей из-за угла кареты, под которую едва не попал. Красные и зеленые круги ходили перед глазами, руки и ноги тряслись мелкой дрожью. Возмущение и обида, страх и гнев мешали ему видеть и соображать.
Он не помнил и того, как взошел по лестнице, как добрался до своего места в чертежной. Товарищи окружили его, поняв по перекошенному лицу, что случилось в директорской приемной. Кто-то снял каску, кто-то отстегнул шашку, кто-то подал воды. В этот день прямо из департамента Серяков решил идти на Гороховую. До возвращения домой нужно успокоиться, обдумать положение. Матушка вчера так радовалась его планам, так верила в силу полковника… Эх, да ведь и сам он, дурак, верил… Вот она, аракчеевщина проклятая, когти показала! Забежали вперед, нашептали генералу, что унтер-топограф осмелился гравировать, что назвали его художником, «господином».
«Стой, никуда не уйдешь от судьбы, солдат, серая скотина! Как ты смел, сукин сын, такое задумать?!» При выходе из департамента его догнал Антонов:
Читать дальше