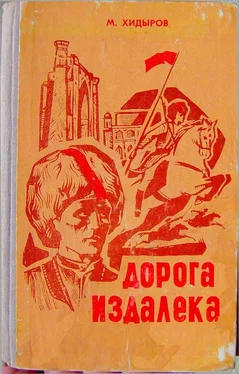Аул, и котором протекали годы моего детства, привольно раскинулся на равнине: с одного края поглядишь — другого не увидишь. Местность совершенно гладкая, и только посреди селения высился темно-серый глиняный холм. Это — старинная, давно заброшенная крепость. Нам, мальчишкам, казалось, что холм посреди аула — самый высокий в мире. Мы искренне верили рассказам, будто зимой холодные свинцовые тучи, гонимые северным ветром, разбиваются о его вершину, от боли плачут обильными слезами, и потоки воды низвергаются на землю, на убогие дома и оголенные деревья. А в пасмурные дни поздней осени вершина крепостного холма будто и вправду исчезала, таяла во мглистом небе.
Впрочем, не одни мальчишки — все жители аула были убеждены, что нигде во всей округе нет такой же величественной, древней крепости. Люди так ее и называли: Старая крепость, Коне-Кала. Самые пожилые старики, да еще немногие грамотеи, знакомые с ветхими рукописными книгами, знали, что некогда крепость именовалась иначе: Хайбер-Кала. Однако прежнее название было почти всеми забыто. Возможно, в далекие времена тут возвышался целый укрепленный город: ведь еще к сейчас Коне-Кала занимала площадь не менее сорока танапов. А вокруг, за пределами нашего аула, лежали тысячи танапов солончаковой скудной земли. Ее-то и носили, проливая горячий пот, наши далекие предки, чтобы воздвигнуть громадину чуть не до небес. Поистине адский труд! Не только пот, но, наверно, и слезы, и кровь человеческая обильно оросили в те времена землю у подножья грозной твердыни.
Помню, на верх крепостного холма поднимались узенькой тропкой, которая вилась, подобно змее. Взберется человек самую вершину, глянешь на него снизу — и он покажется малым ребенком, едва научившимся ходить, А когда сам туда же вскарабкаешься, — такая даль перед глазами открывается, что дух захватывает. И весь аул перед тобой словно на ладони. Там и сям глиняные мазанки с плоскими крышами: иные повыше, иные вовсе неказистые. На крыше сложено у кого что: тут и хворост, и кизяки сушатся, и палач — кукурузные стебла — желтеет, и связки выгоревшего буяна — солодки — темнеют грудой. А кое-где сплошь одни кибитки, поверху окутанные рваными, выгоревшими на солнце кошмами. Всюду фруктовые деревья. Разбегаются во все стороны арыки и арычки; берега у них высокие, неровные — от который выбрасывается при очистке русла. Улицы — ее улицы, а тропы, узкие, извилистые, пыльные. Туда-сюда беспрестанно снуют люди, кто пешком, кто на ишаке, кто верблюда ведет в поводу. В облаке пыли движется стадо, в середине пастух с кривой палкой, а чуть подальше люди копают землю, мелькают над головами где кетмень, где лопата с отточенным лезвием. С другого края — скотина пасется, траву щиплет, резво прыгают пушистыми комками светло-коричневые ягнята, палевые козлята.
Наш аул считался одним из самых больших и многолюдных на правом берегу Джейхуна капризной, неукротимой Амударьи. С трех сторон обступили его песчаные желтые барханы. С четвертой стороны — пустырь, называемый Пир-Зорра, он придвинулся к самому берегу реки. Здесь низина, в половодье заливаемая мутной» беспокойной водой, А барханы тоже не стоят на месте. Когда поднимается ветер и взметает лесок, тучами по воздуху, струями по земле гонит его к воде, — кажется, вновь и вновь затевают река и пустыня вековечный спор. «Засыплем тебя доверху, тогда умолкнешь, угомонишься!» — зловещим шепотом грозятся пески. — «А ну, попробутей!» — клокочет в ответ Амударья!.. Силы ей не занимать. С высоких обрывистых гор начинается могучая река, много сотен верст катятся ее тяжелые, мутные воды. Подмывают берега, жадно схватывают и уносят все, что попадается на пути, — камни, глыбы земля, дома, деревья…
Аул раскинулся неподалеку от берега, но нет ему дела до вековечной тяжбы реки с пустыней. В летний полдень редко вздымается желтая пыль над извилистыми улицами, не шелохнется листок на высоких, до самого неба, белоствольных тополях по обочинам. Мне запомнилось, что были они чуть ли не выше Старой крепости: поглядишь на макушку — придерживай тюбетейку, чтобы не свалилась. А за цепочкой тополей вдоль улицы — тутовые деревья, кряжистые, с обильной листвой — глазом не окинешь. Когда их тут насажали да вырастили, никто не знал. Самые древние старики говорили про них: «Мы еще ребятишками были, а эти деревья стояли точно такие же». Иные добавляли: «Когда их тут посадили — этого и дедам нашим не было ведомо». Нам-то, ребятишкам, все равно; помню, на какое дерево ни взберешься — весь аул под тобою и видно все далеко-далеко вокруг.
Читать дальше