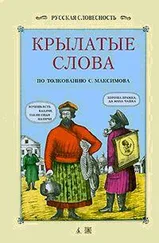Запах только что испеченного монастырского хлеба был особенно дразнящим во влажном воздухе. При виде вооружённого военного человека монахи, выходившие из главного храма, крестясь, спешили уйти прочь с монастырского двора под защиту толстых стен прилегающих зданий. Суровцев запоздало снял с головы будённовку. Перекрестился на церковь. Затем на часовню Феодора Кузьмича.
Повернулся вправо и тут увидел свою няню. Параскева Фёдоровна шла от трапезной к храму, глядя себе под ноги. Она сильно постарела со времени предыдущей встречи. Точно не выдержав давления последних лет, спина у нянюшки согнулась, и не было теперь решительно никакой силы, чтоб разогнуть её обратно. Со стороны было просто непонятно, как она до сих пор ходит без палки – столь, казалось бы, необходимой для сопротивления земному тяготению или давлению самих небес, которые готовы были и дальше гнуть ей спину, чтоб уже или сломать, или же окончательно пригнуть к земле.
Не дойдя несколько шагов до колодца между трапезной и храмом, пожилая женщина увидела своего воспитанника. Охнув от неожиданности, развела руки в стороны, потом сразу непроизвольно потянула к нему ладони. Суровцев бросился навстречу, точно опасаясь, что она сейчас упадёт, если её не поддержать. Обнял маленькую, не разгибающуюся фигурку. Поцеловал тёплую, пахнущую хлебом щёку, прижал к себе. Голова нянюшки оказалась почти у его живота. Чувствовал грудью, как негромкие рыдания толкаются вместе с её причитаниями ему под сердце:
– Сергей Георгиевич, не суди меня строго, старую. Не уберегла я наших голубушек. Не отвела в тяжкий час от них рук нечестивых, – тоненько голосила женщина. – Прости, батюшка! Христа ради, прости дуру старую, рабу неразумную, дщерь непутную.
«В своём ли она уме? За что её простить? Не понимаю», – путано думал Суровцев. «Как было бы славно сейчас поплакать вместе с ней», – ещё подумалось ему. Но комок горечи в горле стал теперь столь значительным, что перекрывал не только путь слезам и рыданиям, но и самому дыханию. Не находилось и слов. Приходило горькое осознание того, что, кроме нянюшки, не осталось у него на земле ни одного родного и близкого человека. Тётушки, тётушки… Казалось бы, он мог всю жизнь носить в душе обиду на них. Чего только стоила отдача его в кадеты в шестилетнем возрасте! Мокрая от слёз подушка, на которой он тогда засыпал и просыпался… Но детские горести исчезли сами собой. Чувство родства и признательности с годами оказалось куда сильнее детских обид. И сейчас, обнимая нянюшку, он точно держал в руках последнюю живую нить, связывающую его с тётушками по отцовской и материнской линии. С двумя женщинами, немкой и русской, судьбы которых, точно маленький и крепкий узелок, связал когда-то своим рождением он сам.
Не размыкая объятий, он стал покачиваться вместе с Параскевой Фёдоровной из стороны в сторону. В такт покачиванию как-то светло и молитвенно повторяя про себя слова своей колыбельной. Точно возвращая нянюшке всю её ласку и всё её тепло, принятое им от неё в детстве. Подумалось, что это он, а совсем не его няня, сходит с ума. Дождик моросил вокруг, дождик, представлялось ему, моросил и в душе, которая щемяще, но тепло и нежно лелеяла слова грустной народной колыбельной песни. Мелодия звучала внутри него. По беззвучно шевелящимся губам нельзя было и понять, поёт ли он или шепчет слова молитвы. Могло даже показаться, что он просто что-то полоумно бормочет:
На улице дождик землю прибивает.
Землю прибивает. Брат сестру качает.
Ой, люшеньки, люли! Брат сестру качает.
Заоблачному солнцу в тот день так и не удалось пробить и рассеять тучи. Непогода то дождём, то моросью, смешиваясь с шорохом опавшей листвы под ногами, так и шуршала до позднего вечера. Листвы на деревьях становилось всё меньше и меньше. К тому же городские сады и скверы за последние годы оказались почти полностью вырублены.
Вслед за деревьями и заборами, использованными как дрова, исчезли деревянные, дощатые тротуары. Там, где они прежде пролегали. Почти пропали цветники рядом с многочисленными купеческими особняками, украшенными традиционной для Томска резьбой. Казалось, ещё чуть-чуть – и сама эта резьба отправится в печь.
Резные наличники и карнизы домов за послереволюционные годы не подновлялись и не подкрашивались. Имели они теперь неопрятный, облупившийся вид. В самих особняках, часто вместо одной-двух семей или прежних хозяев, ютилось до десятка семей хозяев новых, получивших жильё по разнарядке горсовета. Но на этом уплотнение не заканчивалось.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


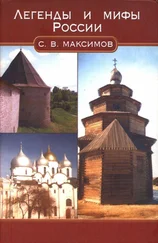



![Альберт Максимов - Путь Сашки [СИ]](/books/194896/albert-maksimov-put-sashki-si-thumb.webp)