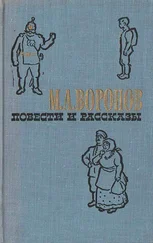— Больше, наверное.
— Нет. На петров день исполнится шесть лет. Были мы в городе Нямцу под крепостью. Сестра Петри Готку на свадьбу позвала. И младшенький сын Петри угодил в колодезь.
— Чего добивался, то и получил. Отец вытащил и мокрого отодрал, как сидорову козу.
— Да я не о том. Я к тому, что с дитем всякое может случиться.
— Мальчишке было шесть лет, а Ионуц — мужчина.
— Откуда ты это взял? Разве ты в его возрасте не полез бороться с татарином на ярмарке в Тыргу-Доампей? В здравом ли ты был уме? А после этого, два дня спустя, не ты ли перемахнул через забор в наш двор и пробрался к моему окну, шепнуть мне кое-что на ухо? От великой мудрости, что ли? А псы, почуяв чужого, кинулись на тебя с лаем. Все служители повыскакивали с дубинками, думали — воры. И пришлось тебе залезть по столбу крыльца под самую стреху на чердак. И все диву давались, отчего псы лают под моим окном. А я соврала, что видела кого-то, кто бежал от конюшни и перескочил через забор у самого моего окна. И собрали всех служителей и рабов и пересчитали. Все были налицо. «Должно быть, это нечистый, — подсказала я. — Оттого, мол, так беснуются псы». А потом призналась во всем отцу Думитру на исповеди, и он дал мне отпущение.
— Ты ни в чем не была повинна.
— Тогда не была. А год спустя разве не ты спилил решетку у моего окна?
— Тогда-то уже ни один пес не залаял. Я попотчевал их тряпками, пропитанными смолой, и ни один из них не смог открыть пасть.
— А ты спилил решетку и пробрался ко мне в светлицу. Я до того напугалась, что у меня свело челюсти, и я не смогла даже крикнуть. Уж не скажешь ли ты, что поступал в зрелом уме?
— А про это ты уже не соизволила исповедаться отцу Думитру.
— Да разве я о том? Я к тому, что дите едет в ночное время, а дороги опасны, и кто знает, что с ним может стрястись. Разве я не потеряла уж одного сына из-за такого же безрассудства? Наказал бы тогда всевышний эту гречанку Софию, не дал бы ей прибежища в Молдове! Тогда не лила бы я и поныне горьких слез.
— София по-гречески означает мудрость.
— Еще одно свидетельство твоего великого ума: улыбаешься, когда видишь, что я вздыхаю и лью слезы. Знаю все, что ты хочешь мне сказать: что женщина эта не виновата в том, что ее сразу полюбили два брата, что на то господня воля, что сын наш в монашестве обрел покой и идет благой стезею. Слышала я все это не раз. Да только ни одно твое слово не утешила меня в моем горе. Задам я твоей милости один вопрос, а ты ответь и не скаль зубы, бородач, — знаю, зубы у тебя еще крепкие, орехи грызешь по-прежнему. Так вот, ответь мне, не кривя душой, зачем понадобилось гречанке приехать из своего родного Хиоса в Молдову? Небось хочешь ответить, что турки порубили ее родителей и девушка приехала к своему дяде, галацкому купцу? А я знать про то не желаю. Оставалась бы в Хиосе, и все. Если бы ее похитили турки, она бы погубила каких-нибудь язычников, а не христианские души. Ну ладно, приехала она в Галац к дяде. Так сидела бы в своем Галаце. Нет, понадобилось ей приехать в город Бырлад в то самое время, когда князь Штефан спустился в Нижнюю Молдову навести там порядок. И полюбилась гречанка не только Симиону, но и Никоарэ. А ей самой полюбились они оба. В скоромные дни принимала одного, в постные — второго. И еще была разница: один влезал к ней в окно, а другой приходил через сад с соседней улицы. А в одно воскресенье, когда она отдыхала, сыны наши не утерпели — такая она была пригожая и такой огонь пожирал их (уж я — то знаю, в кого они) — и пошли к ней оба, — ни тот, ни другой не ведал о любви брата; и когда встретились они во тьме, то обнажили сабли и ударили друг на друга. Раненый Симион вскрикнул, и брат узнал его. Остановились они и велели зажечь светильник. И тут же судили гречанку и решили было предать ее смерти. А потом отвратилась у них душа от сатанинского отродья, творящего подобные дела. Но сердца их не знали себе исцеления: расстались братья в слезах, один принял схиму, а другой и слышать больше не желает о сладких померанцах, — не в силах забыть тех, что росли в Хиосе и которых больше нет. За все эти безумства, — а я — то знаю, кто в них повинен прежде всего и кто голова всему, — за все эти безумства больше всех расплачивается конюшиха Илисафта. Другим хоть бы что! Ухмыляются в бородищу и отворачивают лицо, чтобы я не видела, как они скалят зубы. Им море по колено, в самих еще, поди, не все перебродило. В проделках сыновей узнают свои собственные.
… Опять меня зовет ключница; должно, принесла с поварни каплунов.
Читать дальше