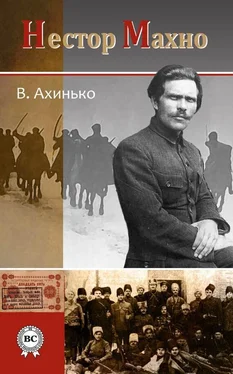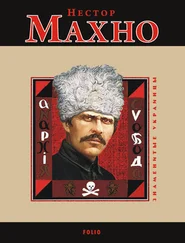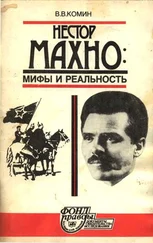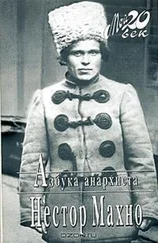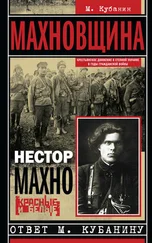— Мы не допустим тиранов. Зачем падать духом? — говорил между тем Волин.
— А я и не падаю. Куда уж? Глубже могилы не зароешься, — археолог поднялся и церемонно поклонился. — Благодарю вас покорно. Велите отправить меня на станцию и посадить в поезд. Все-таки сняли.
— Гаврюша! — позвал Махно. Вошел Троян. — Киньте очкаря на моей тачанке до Помошной, и проследи, чтоб не остался. А то… — он хотел добавить «заумный», но решил, что могут неправильно истолковать и по дороге коцнуть.
Ученый, фамилию которого они так и не спросили, уехал, а с вершины старого тополя все плыла переливчатая, грустная песня иволги.
На даче в Краснове, под Москвой, лежал у окна больной сыпняком Сашка Барановский, он же Попов, он же Хохол, он же Шурка-боевик. С трудом приподняв бритую голову, увидел бело-голубые стволы берез, темную лапу ели с шишками. Все это было в диковинку ему, степняку, слесарю из Александровска, промышлявшему также в Бердянске, Мариуполе. «Где я и как сюда попал?» — пытался вспомнить Попов.
Сегодня вроде отпустило, полегчало чуток. За стеной слышны голоса, шумит печатный станок. «А-а, это Мина, Таня, Кривой и Хиля, — догадался Сашка. — Тискают газетку «Анархия» или «Правду о махновщине».
Дача конспиративная. Чья — неизвестно, снята на деньги экс. Экспроприированные из рабочкопа в Туле три миллиона рублей. «Странно, бьемся за народное благо, а рванули у работяг… Пусть потерпят до Свободы, если не хотят, шавки, ее взять, — мерекал Шурка-боевик. — Белая и красная власти звереют от одного вида нашего черного знамени. Не допустят его, как говорит Казимир Ковалевич, даже над простоквашиыми лавочками».
Барановский со стоном поворочался в постели, стал отрывочно вспоминать, как потрошили еще в Москве пару народных (опять!) банков и в Иваново-Вознесенске взяли более миллиона. Пришлось кое-кому и пятки поджарить, чтоб открыл секреты сейфов. А что же прикажете делать со слугами диктатуры — нянчиться? Они, шавки, не больно-то щепетильны. Штаб Махно и Ворошилова был в одном бронепоезде… Ох, и жарко все-таки… Схватили, зверски расстреляли наших! Где совесть? Какая? Только порох и динамит — для сокращения энергии в борьбе. Нас же мало. Как там пишет Казимир в «Декларации анархистов подполья»?
Сашка нащупал листок на тумбочке, поднес к глазам. Рябило, пахло типографской краской. Ага, «кому претит издевательство человека над человеком и реки крови, и стоны насилия, производимые современным государством и капиталом, — всем вам шлет свой братский привет и призыв…» Рябит, твою ж маму. Ага, «Всероссийская организация анархистов подполья».
Хохол устал, откинулся на подушку, закрыл глаза и долго лежал в полузабытьи.
— Скучаешь, болезный? — услышал издалека. Это Таня или Мина принесла лекарство и еду. Близко не подходит. Правильно.
— Хлебни, милок. Авось отпустит.
Он нехотя проглотил горечь, заметил на стене игру светотени… Вся дача закачалась… Надо же было дураку зайти в лазарет к тифозному… Как жарко. Прямо Мариуполь…
Шурка работал в махновской контрразведке у Левы Зиньковского. Пили ведрами божественную мадеру, ловили кадетов, что прятались по чердакам, выколачивали золотишко… Таня и Мина заразятся, а ходят, ангелочки… Сюда Яша Глазгон доставил, длинный, светлый, вроде березы за окном, вместе орудовали в Мариуполе, да Петр Соболев, Казимир Ковалевич — чернорабочие анархии. А с ними генерал Гроссман-Рощин. Он и беседовал с Махно. Остальные слушали. Потом… или раньше? Какой-то еще полячок лез в полковники… Ага, Бржостэк… И не выговоришь. Бр-р… Как холодно! Окрутил саму Марусю Никифорову. Денег Батько дал боевикам. Смех! Полмиллиона! В Синельниково опоздали: чекисты уже пустили в расход махновский штаб. Теперь Кремль. Какой?
Сашка опять забылся. Плыл и плыл куда-то в тягучем лиловом мареве, еле загребая руками, ногами. Тонул, задыхался, пытался звать на помощь, а духу не хватало, хотя, казалось, орал изо всех сил: «Спа… спа… сите!» Рядом замедленно качалась голова лошади, пуча глаза. Какой-то махонький, с наперсток, кучерок стегал ее по гриве. Волосы тихо и мягко струились назад, далеко-далеко, шелковистыми прядями. Шурка барахтался в них, как тифозная вошь. Мизерный кучерок, ни дать ни взять Нестор Иванович, нащупал его ногтями, поднес поближе к себе и стал стрелять прямо в лоб тоненьким синим лучиком, приговаривая: «Бо-ишь-ся?’ Бо-ишь-ся?» Всё вдруг — и выпученные глаза лошади, бесконечные пряди, кучерок в них — обрушилось немо и в гигантском вихре закрутилось, полетело вниз. Хохол пытался зацепиться за что-нибудь, удержаться, но его несло и несло…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу