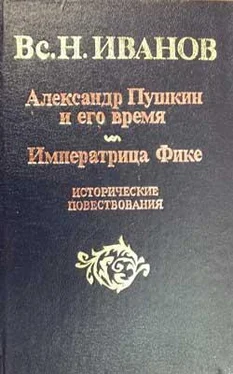Бросив вязанье, Надежда Осиповна указательным пальцем в кольцах легонько взялась за висок под черными локонами.
— Лушка! Она же меня уморит! Опять этот ужасный самовар! С дымом! Луша!..
Поэт проснулся и, подкрепленный сном, бросился к столу… Пищали вечерние комары, жгли лоб, руки.
Торопливо, волнуясь, перебирал Пушкин лицейские листки — не то! Не то! Писалось давно, потом были экзамены, Петербург, ехали в деревню… Ну, стихи зачерствели, застыли… Руслан есть! А ведь нужен целый народ! Такой вот, какой дышит в деревенской тишине… А с чего начать? С природы? Природа у французских поэтов только кружит хороводы веселых Ор, повторяя вечно весны, лета, осени, зимы… А как все это надоело… Природа ведь стара, как мир! Ничего она не повторяет.
И слово «стара» родило чудо.
Оно как-то споткнулось, привлекло к себе внимание, дрогнуло светлой точкой, из точки заиграли лучи. Слово ожило, стало расти, заблестело и, упав на бумагу, растеклось под пером первой откованной строчкой, полной неожиданно открывшегося смысла:
Дела давно минувших дней,
за ней засверкала, подошла плотно, встала на место и вторая строчка, колыхнув в себе бездонность времени:
Преданья старины глубокой.
— Александр Сергеевич! — в двери неслышно — он всегда входит деликатно, в мягких сапожках — встал Никита. — Пожалуйте ужинать, маменька приказали.
А стихи лились уже алмазной горой водопада, как державинский Кивач:
Не скоро ели предки наши,
Не скоро двигались кругом…
и замыкались в звонкое:
Ковши, серебряные чаши
С кипящим пивом и вином.
Видения вплывали вместе с лунным светом в окошко, в дверь. Густые, горячие голоса, смех, крутые мускулистые шеи, длинные седые усы, широкие плечи… Бороды, бороды. Эти люди прежде всего сильны. Эти люди жили, они хотят жить, и они будут жить в творенье поэта… Чей-то дерзкий взгляд блеснул под приподнятой бровью…
— Людмила! Вот она! Вот…
— Александр Сергеевич!
— Ступай, Никита! Сейчас!
Поэт отмахивается от Никиты, как от комаров, а Никита, улыбается в усы. Вышел, остановился за дверью, притулился к бревенчатой стенке. Он ли не знает, своего барина? Он ли не знает, как ему помогать? Не мешать ему, вот и все!
…Киев на холмах. Гусли Баяна… Скок коней в степи… Фантазия! Ведь он никогда не видел ни степей, ни Киева!
Никита ждет, отщелкивая комаров.
В окошко видно: горбатое облако плывет ниже луны, свесив черную косматую бороду…
И кто-то в дымной глубине
Взвился чернее мглы туманной…
Сквозь счет ямбов чьи-то розовые пятки бьют торопко по скрипучему песку. Шепот. Никита опять у двери:
— Александр Сергеевич! Пожалуйте! Маменька гневаться изволят! Лушку прислали!
— Эй, Никита, одеваться!
Гусиное перо с маху втыкается в чернильницу. Золотой щит луны повис в узоре листвы.
О, деревенская тишина только кажется тишиной. Она жива, жива своей вечно молодой стариной. О, как много знает эта тишина!
А тут — «маменька будет гневаться». Будет говорить, что он плохо воспитан. Но голос Надежды Осиповны неожиданно перебивает, покашливая, другой голос — наставительный и мужественный:
— Юноша, Киев — мать городов русских… В Киеве — сила народная. В Киеве — богатыри-с! Да-с! Богатыри — это вера в народ! Не шутка-с! — Пушкин узнает голос Карамзина Николая Михайловича.
Руслан-лодочник — он-то и есть киевский богатырь святорусский… Бородка золотистая, плечи — косая сажень, глаза синее озер родной Псковщины. Блестят серебром доспехи!.. Вот он — Руслан!
— Александр Сергеевич!
— Ишь пристал! — смеется Пушкин. — Смола! И весело смотрит на Никиту:
— Да разве это слуга?. Разве раб? Ха-ха! Нет, это друг! Никита пуще маменьки! Чует сердцем, что его барин творит великое дело… Маменька не верят, а вот Никита верит! Народ любит своих поэтов, гордится ими… Помогает им, как Гай Цильний Меценат помогал поэту Вергилию славить свой Рим!
Пушкин выпростал голову из ворота накинутой Никитой чистой рубахи, глаза и зубы сияют от свечки, смеется в дядька. Оба вполне довольны друг другом.
— А знаешь, Тимофеич, давай-ка махнем мы с тобой назад… В Питер! Там спокойнее. Тут только то и дело что чай пить да кушать пожалуйте… Ну, бежим!
Поэт бежит по лунному саду, полному зеленого света, путаных теней, молчаливой темноты под старыми яблонями, полубелых холстин тумана, разостланных по лужайкам. Древние деревенские тайны, вечная, неясная, сладкая и молчаливая жизнь… И сто, и тысячу лет тому назад так же синели эти холмы, блестели озера, булькала речка, плыла луна. Все жило так же, как и теперь, и молчало так же… И тоже думалось и верилось втихомолку, что когда-нибудь на свете непременно да явится правда…
Читать дальше