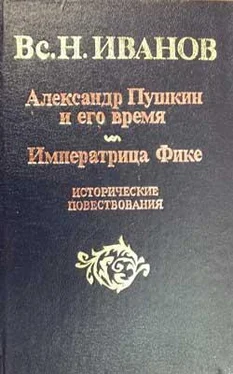— Саша! Горчаков! — подбежал к нему Пушкин. — Не опоздаем?
— Думаю, нет! — отвечал румяный юноша. — А ты как добрался? Без экипажа?
— Как в Венеции. Гондолой!
— Ты как всегда! Ты необычаен, Пушкин! Идем же… «Мой милый друг, мы входим в новый свет…» — продекламировал Саша Горчаков. — Это твое!
— А помнишь, как у меня дальше? — спросил Пушкин: — «Но там удел назначен нам не равный…»
Швейцар в гербовой ливрее, с перевязью через плечо, в треуголке, с булавой, распахнул уже перед ними стеклянную дверь, и гул молодых голосов приветствовал их вступление в новую жизнь:
— Где же вы? Заставляете ждать вас!
Тут были все, кто поступал в Коллегию: Ломоносов, Корсаков, Гревениц, Кюхельбекер, Юдин.
— Господа! Времени нет. Не заставляйте ждать. Будьте точны! — раздался сверху скрипучий голос чиновника с седыми бачками. И молодые дипломаты примолкли, бросились толпой вверх по белой лестнице.
…Нелегким был тот первый месяц жизни Пушкина в Петербурге в отпуске после Лицея — пришлось жить в семье, от чего поэт отвык, привыкать было трудно. Свобода кружила голову, батюшка был ворчлив, непонятно обидчив, на деньги не тороват, а расходы были — платье, форма Коллегии, то да се, особенно же все новые и новые знакомства связывали Пушкина с людьми богатыми, независимыми, а это тоже требовало расходов.
Но все же, вырвавшись из царскосельских регламентов, избавившись от околопридворного этикета, Пушкин упивался свободой. Однажды подшутил он над скуповатым своим батюшкой, и очень тонко: переезжая всем семейством как-то на ялике Неву, восхищенный великолепной панорамой Петербурга, Невой, зажженной солнцем, поэт выхватил из кармана золотую монету и бросил ее в воду как дань роскошной, солнечной красоте… Золото блеснуло в хрустале воды, качнулось, исчезло…
— Ха-ха-ха! — смеялся Пушкин, захлопав в, ладоши. — Последняя, последняя!
Долго еще продолжал гневаться батюшка, но дома успокоился и тихонько сказал жене, пожав плечами и расставив руки:
— Что делать? Поэт! Весь в меня! В Петербурге, это не то что в келье и в садах Лицея.
И шумно и беспокойно жить в семье! Но если приходилось оставаться одному, в душе подымалось цветное облако видений, неясных образов! Поэма, зародившаяся еще в Царском Селе, рвалась к жизни. Какие образы… Девичье чье-то заплаканное лицо, взор хоть испуганный, но яркий до дерзости. И богатырь, Еруслан, идет против черного зла, страшного, как дремучий лес… Образы требовали воплощения; а этот первый месяц свободы был весь занят. Время проходило, на душе было тревожно.
Дверь растворялась, входила матушка, гремела юбками, спрашивала:
— Александр, куда же ты девал те голландские рубашки, что мы, помнишь, с Оленькой привозили тебе в Лицей, зимой?
Юноша, что-то отвечал, маменька сердилась; а он тоскливо глядел на подоконник — стола еще не было, — где желтели под солнцем листки — наброски поэмы.
Семья есть семья. Семья — это установленный порядок. Порядок — всегда гнет. Семья довлела, брала силу над поэтом. И както батюшка и матушка, лежа в своей широкой постели, решили, что пора ехать в свою псковскую деревню: лето идет!
— Присмотрись сам, как идут там работы, — говорила матушка. — Доходу мало!
— Да, да, мой друг! Ты, конечно, права! — подтвержу дал батюшка. — Свой глаз — алмаз! Надо, надо…
И 9 июля, рано поутру, из Петербурга по Псковскому шоссе — на Царское Село, Гатчину, Лугу, на Новоржев — выехала старомодная карета, где сидели батюшка, матушка, сестра Оленька и горничная девка Глашка. За каретой в тарантасе с опущенным верхом ехали братья — Александр и Левушка с Никитой и с кучером на козлах… За ними — две телеги с вещами, припасами, прислугой.
Ехали они в Михайловское… Сельцо Михайловское в Опочецком уезде Псковщины — родное поместье семьи: его пожаловала еще императрица Елизавета Петровна «царскому арапу», крестнику Петра Великого генерал-аншефу Абраму Петровичу Ганнибалу, деду матери поэта, Надежды Осиповны.
Пушкин, подъезжая к Михайловскому, волновался, да он и всегда волновался. Под жарким солнцем, по песчаной дороге, в каленой пыли лошади медленно тащили тяжелый экипаж. С холмов, усаженных разлапистыми красноствольными соснами, веяло горячей смолой, нагретой хвоей. На широком горизонте синели леса, искрились озера.
На лугах шел сенокос.
— Не управились… — ворчал батюшка.
Мужики и бабы, бросив работу и приложив руки козырьком над глазами, стояли и глядели на барский поезд. Староста, должно быть, бежал наперерез экипажам. Ямщик придержал было коней, но батюшка махнул рукой:
Читать дальше