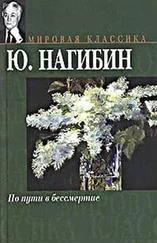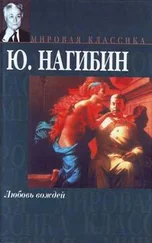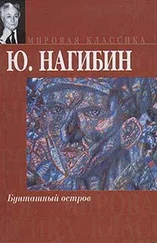— Ну и здоровье у вас! Вы физиологический уникум. И главное — я никогда не встречал такой крепкой нервной системы. С вас хоть диссертацию пиши.
— Рад послужить медицинской науке! — пошутил Старков. — Но и от вас кое-что потребуется. Великую княгиню подослали?
Врач улыбнулся наивности вопроса, но ответил серьезно:
— На таком уровне это исключено.
Старков задумался.
— Мария Александровна сильно набожная?
— Без фанатизма. Насколько мне известно. Глубоко верующий человек. Ею движет собственная совесть.
— Совесть — дело обоюдное, можно сказать, палка о двух концах, — как-то странно поглядел на врача Старков. — И меня тоже подвигла совесть…
…Камера. Старков сидит на табуретке с обмотанной полотенцем шеей, а Мария Александровна ловко взбивает в никелированном тазике мыльную пену.
— Почему у вас такой недоверчивый вид? Я отличный брадобрей. Брила раненых в госпиталях. И мужа, когда ему раздробило кисть. А он, знаете, какой привереда… был.
— Да уж представляю, — проворчал Старков.
— Прибор английский. А бритва золлингенская. Муж признавал только первоклассные вещи.
Мария Александровна принялась точить бритву.
Старков искоса следил за ее зловещими движениями.
Она добавила пышной пены на щеки Старкова и, закинув ему голову, поднесла острое лезвие к беззащитному горлу.
И вот Старков выбрит, спрыснут одеколоном, припудрен. Провел ладонями по атласным щекам.
— Это работа!.. Я бы на вашем месте иначе распорядился.
— О чем вы?..
— Ведь вы меня ненавидите. И должны ненавидеть, и никакой Боженька вам этого не запретит. Я лишил вас всего. И как хорошо — чик по горлу. И отвечать не придется: самоубийство в порыве раскаяния.
— Ну и мысли у вас! — Она вытирала бритву и отозвалась ему как-то рассеянно, машинально… Затем услышанное дошло до сознания. — Почему террористы такие пугливые? А Кирилл Михайлович ничего не боялся. Он знал, что за ним охотятся, но не предпринимал защитных мер.
— С этим позвольте не согласиться. Он задал мне работу.
— Вы сами перемудрили. Он был вполне беззащитен. Но террористы слишком осторожничают.
— Это неправда! — с силой сказал Старков. — Я канителился, потому что не хотел лишней крови. Ваш муж всегда был окружен мальчишками-адъютантами, какими-то прилипалами, холуями-чиновниками и душками-военными. Наверное, все они заслуживали бомбы, но я их щадил.
Она долго и очень внимательно смотрела на него.
— Это правда, — сказала тихо. — Теперь мне понятно, что было на площади. Вы помиловали наших мальчиков. Вы дали всем уйти. И ведь вы сильно рисковали. Вас уже заметили.
Старков молчал, но видно было, что восхищение Марии Александровны не доставляет ему удовольствия.
— Я знаю все подробности. Собрала по крохам… А если б машина не завелась? — спросила она вдруг.
— Одним толстозадым адъютантом стало бы меньше.
— Но как же так?.. Он-то чем виноват? — Гримаса боли исказила лицо. — Ведь у него мать, невеста…
— У всех матери, жены, невесты, сестры. И у брошенных в тюрьмы, и у каторжан, и у солдат, которых ваш муж укладывал штабелями под Плевной. И у меня была мать-нищенка, и у всех несчастных этой страны. Только властям нет дела до них.
— А у вас была невеста? — живо спросила Мария Александровна, не тронутая социальным пафосом.
— Никого у меня не было, — хмуро ответил Старков.
— И никто вас не любил и вы никого не любили?
— Обошлось. Бомбисту это ни к чему.
— Не всегда же вы были бомбистом.
— По-моему, всегда. Как начал чего-то соображать.
— И всегда вы были таким беспощадным? Никогда, никогда не знали жалости?
Старков молчал.
— Почему я, женщина, ни о чем не боюсь говорить, даже о самом горьком и больном, а герой боится? Очень щадит себя? — Она его явно поддразнивала.
— Я не боюсь. Не хочу. Потому что сам себе противен.
— Это другое дело, — согласилась она. — Тут нужно большое мужество.
Самолюбие Старкова было задето.
— Вы слышали о рязанском полицмейстере Косоурове?
На экране возникает Рязань, и весь последующий разговор идет на фоне города, собеседников мы не видим. Студеная февральская зима, когда с Оки задувают ледяные ветры, закручивая спирали метелей. Только что закончилась обедня, народ валит из церкви. Сперва высыпала голытьба, затем разнолюдье: чиновники в шинелях на рыбьем меху, учителя, торговцы, курсистки, военные, наконец, двинулась избранная публика: купцы в шубах на волке, модные врачи, предпочитающие подстежку из лиры, губернская знать в бобрах, их разодетые жены, нарядные дети. Кучера с необъятными ватными задами, каменно восседающие на облучке, подают им роскошные сани с меховой полостью. Пар морозного дыхания большой толпы уносится к бледно-голубому небу.
Читать дальше