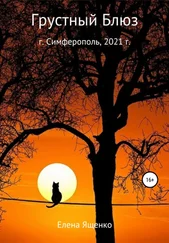— Тима! Он же зубастый! — оторвав сына от груди, заглянула в ротик ему: там синели три крошечных зуба — два внизу, один вверху. Губы, потеряв грудь, всасывали воздух, шлепали. В углах вялого и еще бесформенного рта вскипали молочные пузыри. «Господи, неужто он будет большой и красивый?» — изучая некрасивое лилово-красное личико сына, думала Даша, жалея ребенка, которому еще так много расти, болеть и плакать.
«Не дам ему плакать! Будет балагур, как тятька!» — решила она, проникнувшись горячей, но еще не материнской нежностью. А он уж закрыл блекло-голубые, в младенческой пленке глаза; пальчики, словно цветочные лепестки в безветренную погоду, успокоились и замерли.
Запеленав уснувшего сына, уложила в зыбку, стала покачивать. Скрипели ремни, корзина. Пахло мхом, углями, сырым деревом. И еще чем-то пахло, незнакомым и близким. Даша не сразу поняла — сыном!
Спит, чуть слышно посапывая, как маятник качается на ремне зыбка. А Тима молчит, вороша мягкую заячью шерстку. Лоб опустился, набрякли морщины. Из-под густых ресниц совсем не видно глаз. Закручинился, что ли? На него часто находит. То весел, то сумрачен вдруг станет. Причин смуты его Даша часто не понимает.
— Может, я в тягость тебе?
— Не о том мои мысли, — усадив ее на колени, улыбнулся Барма.
— А все другое нестрашно, — продолжая покачивать зыбку, вскинула голову Даша. Ничто прочее ее не пугало. И стужа, и неудобства в пути, и разные тяготы — все, все по силам рядом с ним, а теперь и с Иванком.
— Лишил я тебя всего. Княжна ведь. Иванко мог стать княжонком. В терему жил бы, на шелках спал.
Даша шлепнула мужа по губам:
— Глупый! Зачем он нам, терем? Зачем шелка без тебя? Все, что надо, имеем. Вон даже остров — наш. Не поскупись, еще один подари.
— Не поскуплюсь! Подарю! Все острова безымянные ваши будут! — вскричал Барма, вновь оживая.
Вот женщина! Вот душа русская! Другая нытьем бы извела. Даша все переносит с улыбкой.
— Даня, сказка моя! Возьми жизнь, всю, до капельки! Выпей!
— Выпью, — Даша соскользнула с колен, сунула в дверную петлю кочергу, но спохватилась: — Нельзя ведь, Тима! Токо что родила.
— Успеем, женушка! Время-то наше! — целуя ее, бормотал Барма.
— Все наше, без остаточка? Никому не отдашь?
— Никому, — клятвенно заверил Барма.
— Другие девки у тебя были?
— Другие?! — Барма оскорбился, беззастенчиво соврал: — Никогда в жизни!
— Ни единой?
— Ни одной.
— Ну если и были, — не слишком веря ему, уступила Даша, — то все равно я всех лучше.
— Да уж точно!
— Ага! — перебила Даша, щелкнув его по лбу. — Значит, все-таки были?
— Запамятовал, — истово врал Барма, удивляясь ловкости, с которой жена его изловила. «Наперед умней буду!» — выбранил он себя.
— Пусть. То прошлое. Отныне мы у тебя: я да Иванко.
— Ты да Иванко! — отдалось эхом в Барме. — Ты да Иванко, — повторил он опять и легонько отстранил Дашу: в дверь кто-то скребся.
— Матюша вернулся, — сказал Гонька с улицы.
— Жив, значит?! — вскричал Барма, толкнув дверь ногою. — А мы его оплакивали.
9
Зелены, богаты леса здешние. А светлухинские и чище и спокойней. В этих мнится невысказанная угроза. Вот кедр, распялив дупло, гудит утробно: «Какое лихо вас сюда занесло-о?» Что ответить старому кедру?
— Поистине лихо. Не своей волей в Сибирь попали. Прости, что незваными пришли.
— Ты чо с ним как с живым? — смеется Феша.
— Он разе мертвый? — грозя пальцем, возражает Пикан. Не дай бог, кедр услышит! Обрушит на головы град шишек аль беду какую накличет. — Живой он, Феша. Все понимает, все видит.
— Види-ит?! — Женщина смущенно накрылась платком, вспомнив, как у костров таежных под задумчивый шелест деревьев, под гомон любила мужа. «Да разве то грех? — одумалась сразу. — И звери и птицы любят друг дружку. Любви стыдится один человек. Чо ее стыдиться-то? Природой назначено. И сам господь повелевал род продолжать».
Бог русский виделся ей пресветлым и добрым, в чистом и белом одеянии, в пышных седых кудрях, как у Вани.
Улыбнулась мыслям своим, провела рукою по загустевшим опять волосам Пикана. Статочное ли дело: мужика с богом сравнила? А разве не бог он? Разве не дал все лучшее, что есть на земле? Любовь дал… И вот младенец во чреве бьется. Скоро явится на свет. Придется делить любовь между отцом и младенцем. Как эта река разделилась на два русла. Разделилась, мельче стала. Фешина любовь меньше не станет.
Желт, мутен Иртыш. Не за то ль землероем его прозвали? Бежит на север и тоже о чем-то думает. И рыбы в нем плещут. Их стерегут чайки. Иртыш вытянулся большим змеем — голова неведомо где, у самого океана, хвост в тех краях, из которых пришли Фешины предки.
Читать дальше
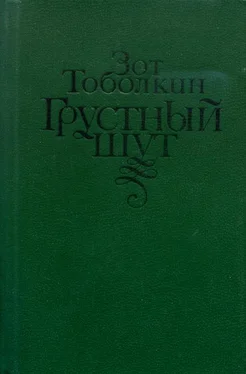

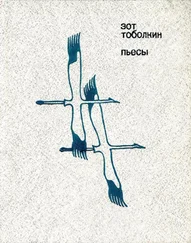

![Евгений Дубровин - Грустный день смеха [Повести и рассказы]](/books/425232/evgenij-dubrovin-grustnyj-den-smeha-povesti-i-ra-thumb.webp)