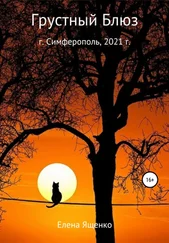Да что стремиться-то? У Пикана свой путь, свое слияние. А родничок влился в реку, рассказывает ей, что узнал до этого, что перечувствовал. Вслушайся лучше. Ручей не лукавит. Это человек то убавляет, то прибавляет, когда ему выгодно, а природа правдива. Пиши, ручей, свою серебряную строчку, воркуй. Человек, слушая твою бесхитростную сказку о цветах и травах, напоенных тобой, пусть завидует. Вон загорелись костры жарков, вон колокольчики названивают, смотрит пронзительным синим глазом незабудка. Все видит зоркий глаз ее, все запоминает, потому и зовется цветок тонконогий таким именем. Вон росинка на мать-и-мачехе. Накололась шариком на волосок и светит, в ней повторяется та же великая и бесконечная жизнь, и такая же Феша, и такой же Пикан любуются ладно устроенным миром, славят творца, славят солнце! Есть день, есть ночь, есть ложь, есть правда, добро и зло, красота и уродство. Но солнце единственное над всем миром. Величаво и властно, светло и детски отзывчиво оно на всякую боль. Худо душе твоей — выдь на завалинку, и ласковый луч упадет на твои влажные веки, слеза станет каплею золота и с тем же лучом высветит тайную боль твою — улыбнешься поневоле.
Одно солнце, едино! Нет равных ему.
«Да что я, — спохватился Пикан, — о боге-то не поминаю?»
Осудив себя, снова заслушался жизнью: вокруг день ликовал, трубил бессмертную песнь сотворения, которой не дано сыграть ни одному, даже самому искусному трубачу.
Феша уснула. Спала раскрыто, доверчиво. Пикан стоял над нею, закрыв глаза, и мысленно переживал то мощное мгновение дня, которое только что впилось в него всеми цветами, звуками, запахами, высветило и сделало частицей необъятной и неиссякаемой природы.
«Боже, славлю тебя! Я испытал счастье, боже!»
Набрав сухолому, развел костер. Пока кипела вода в котелке, кинул сетку, тут же вытряхнув из нее пяток язей и пару стерлядок. Язей отпустил, стерлядок бросил в кипящую воду. Накопал саранок, нарвал черемши — зеленая приправа к обеду.
— Просыпайся, люба моя! — осторожно коснулся губами спокойного светлого лица жены; она схватила его, привлекла к себе, хрипло и страстно забормотала не то молитву татарскую, не то любовный наговор.
Иртыш слушал, вздыхал тайно. Слушала тайга. А кукушка вдали отсчитывала годы счастья. Много насулила она.
Похлебали запашистой ушицы, устроились под обрывом на отдых.
А князь в Тобольске трубил…
10
И снился им сон о дне последнем.
Рушились горы, летели камни. И с самой вершины холма, на котором стояла сторожевая башня с самозабвенно трубившим на ней князем, извергалась красная лава.
Башня стояла, а князь трубил.
И — странно! — в грохоте вселенском, в черном дыму, в смраде, исходящем от страшного и раскаленного потока, среди духоты и погибели, среди всеобщего хаоса и разрушения ясно слышался звук трубы. Земля раскалывалась, улетала прочь куда то кусками и расплавленными брызгами. На каменном возвышении стоял человек, наигрывая на трубе что-то торжественное и светлое.
А двое спали, тесно прижавшись друг к другу. Их опоясал шелковистый пояс реки. Стихия разрушила и унесла все, что было вокруг — леса, холмы, дальние горы, — образовался провал. Иртыш повернул к нему и устремился вниз. На островок, где спали Пиканы, слетелись стаи лебедей, гусей, рябчиков, тетеревов, сбежалось зверье. Иртыш плеснул нагретой волною и затопил вокруг раскаленное, движущееся пространство, в котором ничего, кроме огней и камня, не было. А все, что недавно называлось землей, что казалось вечным и прекрасным, стало мертвым шипящим камнем. Камень исчез под водою, над ним бурлила, извергая дым и пар, огромная воронка, вобрав в себя кишевшую жизнь земли. Лишь маленький остров, омытый рекою, одиноко зеленел посреди парящего моря. На песке спали женщина и мужчина. Им, прощаясь, трубил трубач. Он все еще стоял на своей башне, от которой остался лишь флюгер. Но вот и флюгер скрылся. Вода сделалась князю по пояс, по плечи, выше. Исчез трубач. Одна труба блестела над водою, а вместо звуков вскипали белые пузыри. Вот и труба пропала. Везде была только вода. Пикан с Фешей встали. Их обступили птицы и звери. Из реки высунулись тысячи разных рыб: осетров, тайменей, муксунов, нельм… И тут же плавали сваренные и задохнувшиеся рыбы. Иртыш примывал их к берегу, к птицам. Но птицы не трогали мертвых рыб, поджимали лапы и отступали.
Дымилось небо, но сквозь дым и пар прорывалось солнце, и сизую рябь Иртыша торощил легкий, налетевший с юга ветерок. Он отгонял тяжелый запах извержения, трупики птиц и рыб от острова, и бесстрашно бежал дальше, к неведомому берегу.
Читать дальше
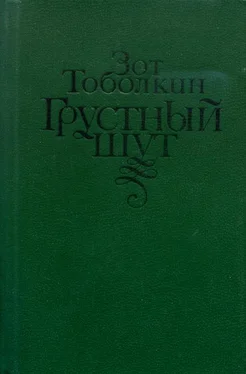

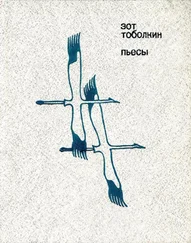

![Евгений Дубровин - Грустный день смеха [Повести и рассказы]](/books/425232/evgenij-dubrovin-grustnyj-den-smeha-povesti-i-ra-thumb.webp)