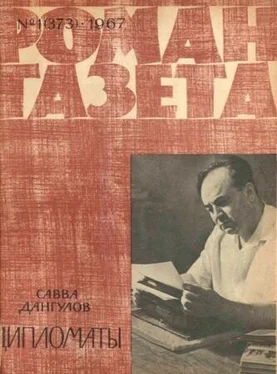Репнин пробыл в Вологде еще неделю; все эти дни здесь был и Радек.
Так непосредственно Николай Алексеевич впервые наблюдал Радека. В стремлении склонить дипломатов выехать в Москву Радек был динамичен, но это не дало результата — очевидно, решение было ими принято прочно и вряд ли советская сторона могла изменить его. Но нечто другое все еще было возможно: сделать проблему предметом диалога — это всегда полезно. Однако сама фигура Радека и все, что сообщила, этой фигуре молва, затрудняли какой-либо обмен мнениями. Радек писал письма Френсису, послу и дуайену, а Френсис через голову Радека отвечал на них Чичерину. Впрочем, в этом случае письма Френсиса описывали соответствующий полукруг и над головой Репнина. Чтобы обрести ту степень единодушия, которую обрели сейчас дипломаты, надо было, чтобы Радек появился в Вологде. Это был тот самый пример, когда потеря личного престижа нанесла ущерб не столько дипломату, сколько делу, которое он представляет. Как был убежден Репнин, процесс, о котором он думал по дороге в Вологду, достиг своего логического завершения: оказывается, твоего умения и профессионального опыта недостаточно, если ты позволил небрежно обойтись с именем своим. Есть сфера деятельности, где этот процесс обратим. В дипломатии другие законы.
Репнины собрались в Москву.
Кедрова не было в Вологде, и их провожал Северцев.
Репнину показалось, что Северцев непонятно обеспокоен, и Николай Алексеевич спросил его об этом. Северцев встревожился еще больше, заметив, что ему худо из-за бессонницы — последние дни он спал считанные часы. Но когда впереди возник дымок паровоза. Северцев взял Репнина под руку и, отойдя с ним в сторону, сказал, что вчера на рассвете погиб Маркин.
Поезд отошел. Репнин с женой стояли у окна и смотрели, как тускнеют поля. Опять было светлое небо и поодаль в лесном море тонуло солнце. Маркин не шел у Репнина из головы. На память пришла Охта и разговор с Маркиным о возмездии. В том, с какой решимостью Маркин оставил дипломатию и ушел на фронт, было, как убежден Репнин, не безразличие к дипломатии, с которой Маркин связывал надежды жизни, а сознание, что он необходим России именно на линии огня. Наверно, в открытую атаку на тот мир были способны пойти только такие, как Маркин, — ключ к разговору о возмездии лежал где-то здесь. Репнин подумал: как он утаят печальную новость от жены и надо ли утаивать? Сейчас Анастасия Сергеевна была рядом. Состояние мужа передалось и ей. Она говорила, что дипломатическая Вологда была ей не по силам и, вернувшись в Москву, она примется за работу. Она будто подвела Репнина к разговору он так боялся. Надо было вспомнить питерских учеников Анастасии Сергеевны и сказать о Маркине. Но Репнин пощадил жену. Время умеряет боль — пусть пройдет время, решил он.
Если бы Петру сказали, что ему будет так худо после отъезда Киры, он бы, пожалуй, не поверил. Произошло что-то совершенно неведомое для него. Вначале его полонила жестокая обида — так хотелось, чтобы Кира осталась, он просил ее, как только можно просить, но она не вняла ему. На обиде этой он держался дня три. Потом она иссякла, как высыхает на знойном солнце вода. Он пытался теперь припомнить, что говорил ей, и все слова казались ему тусклыми, лишенными живой крови. Он стал восстанавливать в памяти обстоятельства ее отъезда и неожиданно нашел деталь, которая все объясняла удивительным образом, все делала ясным, не оставляла места сомнениям. В самом деле, почему она вдруг с такой силой устремилась в Англию. В ее силах было не уехать, а она уехала — ведь Клавдиев остался в Москве!
Очевидно, там был кто-то такой, кто был дороже Петра и кого, это несомненно, нельзя было переселить в Россию. И как только Петр сделал это открытие, все стало ясным, и доводы, один убедительнее другого, стали возникать в сознании, и ни один из них не опровергал этого предположения. И Петр стал думать о том, что все освещенное их любовью: и ее родительский дом, и эти поля за городом, и взгорье, с которого они смотрели спектакль, и, наконец, море — осквернено прикосновением этого, человека, все море, как бы далеко оно ни простиралось. Но проходили дни, недели, минул месяц. Боль была неутолимой. Он стал серьезно думать; что нужны другие сроки и другие расстояния, чтобы остудить это ощущение незатухающего огня.
Как-то он поймал себя на мысли, что ему легче. Даже стало как-то весело: он свободен от боли. Однако время побеждает все, сказал он себе. Он даже вспомнил, как однажды на кладбище увидел, у свежей могилы молодого мужчину и старуху, древнюю, очевидно, сына и мать. «Надо перебороть лето, только лето…» — сказала старуха, и Петр был удивлен, что сказала она это голосом, в котором не было участия, а была непонятная жестокость. Кто умер у человека? Наверно, жена. Ее он опустил в могилу. А старуха? У нее было сто лет за плечами, и она была мудра безбоязненной мудростью прожитого. Она так и сказала: «перебороть лето». Она-то знала, что надо дожить до осени. Только до осени. Он вспомнил библейскую истину: «Все проходит». — и улыбнулся очень горько. Кира? Он помнил всю ее, как только можно помнить женщину, которую очень любишь. Ему вдруг припоминались руки, которые она точно подставляла взгляду мужчины, когда хотела понравиться. «Ты заметил, как он посмотрел на мои руки? — могла сказать она. — Я почувствовала его взгляд кожей».
Читать дальше