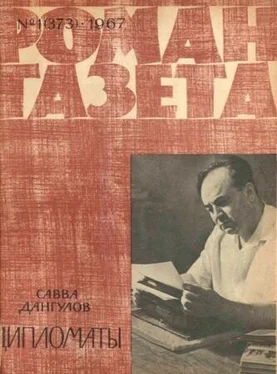Все, что происходило с ним, было для него открытием. Ему было в диковинку, что он прожил столько лет и не знал, как слаб. Да, человек действия, неколебимый перед лицом смерти, он вдруг увидел, как велика в нем мера его слабости. Впервые, в жизни он подумал, что не знает себя. Он стал думать, что навеки, сколько будет жить, будет любить эту женщину и только она может дать ему великое чувство удовлетворения жизнью, называемое счастьем человеческим.
Однажды за полночь, вернувшись домой, Петр вдруг увидел в полутьме глаза сестры. Наверно, весь этот месяц она вот так внимательно-пристально следила за ним, подумал он.
— Убьешь себя совсем, — сказала она.
Петр вспомнил Клавдиева. Захотелось увидеть его. Увидеть теперь же, Клавдиев не Кира, но от него до Киры ближе, чем от кого-либо иного. Петр решил идти на Воздвиженку. Знал, что это будет не просто.
Ему открыл Столетов. Едва опознал, шарахнулся во тьму — даже блика своего не оставил на изразцах. Петр шагнул в глубь квартиры. У самого окна, положив книгу на подоконник, залитый солнцем, сидел Клавдиев. Он взглянул на Ветра. Смотрел, молчал, мрачно шевелил бровями; где-то на кухне гудел примус, гудел напряженно.
— Вы зачем пришли? — спросил Клавдиев наконец.
— Вас повидать, Федор Павлович, — улыбнулся Петр, но Клавдиев не отозвался на улыбку, он втянул нижнюю губу, отчего борода его приподнялась.
— Она давно доехала. — Он перевел взгляд на письменный стол. — Телеграмма пришла из Глазго.
Петр не нашелся, что ответить. Молчал и Клавдиев — они пытали друг друга молчанием. Только примус гудел — чем неодолимее было молчание, тем гудение ближе.
— Вы помните наш разговор о терпимости? — спросил Клавдиев, не глядя на Петра.
— Помню, Федор Павлович.
— Помните мою формулу: «Если правда монополизирована, нет правды»?
— Да, не забыл.
— Как же быть теперь, когда у вас исчезла последняя возможность критики?
— Как так… исчезла, Федор Павлович?
— Но ведь вторую партию прихлопнули? А если нет второй партии, нет и критики! А коли нет критики, дорога столбовая в монархию!
Где-то открыли дверь, и гудящий примус будто возник рядом.
— Федор Павлович, а на кого должна опираться эта вторая партия в таком обществе, как наше? Какую политическую веру исповедовать? К какой цели стремиться?
Клавдиев встал, прямо пошел на Петра.
— Нет, тут я вам не помощник! Без меня заблудились, без меня и выбирайтесь из лесу Революцию, если она революция, можно сберечь, если сбережешь возможность говорить друг другу правду, говорить прямо и честно, как бы тяжка эта правда ни была. Две партии эту возможность дают, одна исключает.
— Но ведь правду может сказать друг, и не недруг.
— Почему же? Чем отчаяннее правда, тем лучше.
— Но мне не нужна абстрактная правда, отчаянная и злая. Федор Павлович. Нужна правда, помогающая мне сохранить Октябрь и осуществить мой коммунистический идеал…
— А это уже от вас зависит, сбережете вы или нет свой идеал. Если вы сильны силой наших идеалов, выдюжите. Если хилы, туда вам и дорога!
— Значит, это риск?
— Ну что ж, пожалуй, риск!
— Но рисковать делом, за которое отдали жизнь миллионы, да и жизнь… вашего сына среди них, Федор Павлович, имею ли я право?
Клавдиев затих. Казалось, его воинственная энергия остановилась. На секунду остановилась. Потом он пришел в себя, взметнул ладонь.
— А вы думаете, что, отказавшись от возможности говорить друг другу правду, вы не рискуете делом, за которое отдали жизнь миллионы? И моего Колюшки жизнь…
Клавдиев умолк неожиданно, но Петр понимал, что где-то на оборванной его собеседником фразе сшиблась правда Клавдиева с его, Белодеда, правдой.
— Мы молодая демократия. Федор Павлович, и нам еще торить и торить нелегкие наши дороги, но мы сбережем возможность говорить друг другу правду.
Дверь на кухню все еще была открыта. Слышно было, как кто-то накачивает примус короткими и быстрыми рывками.
— Поймите, если правда монополизирована… — убежденно начал Клавдиев.
— А вы не пугайте меня этой вашей формулой, Федор Павлович, — прервал его Петр. — Моя правда действительно монополизирована, и считаю это справедливым.
Клавдиев онемел — только дрожала его бородка да грозная просинь выступила на желтых его щеках.
— Это какая же такая ваша правда? — спросил наконец Клавдиев.
— А та, что я добыл кровью, Федор Павлович, не было бы ее — смерть мне и революции моей.
Клавдиев молча закачался на каблуках.
Читать дальше