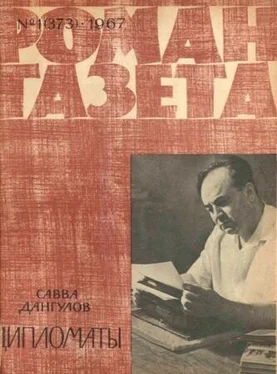Они возвращались.
Ленив молчал. Думал о чем-то своем, нелегком. Шаг был почти бесшумен. Глаза полузакрыты. Весь ушел в себя. Потом тихо заговорил:
— На днях я вдруг подумал: Парижская коммуна прожила семьдесят два дня, мы — почти сто…
Что-то большое и тревожное вызвал у него в сознании один вид этого зала. Его мысли шли трудной тропой, и непонятно, как они добрались до этого сравнения.
— Да поймите же, — взглянул он на Петра так, точно Петр только что неуступчиво возражал ему. — Поймите, вопрос так и стоит: жить нам или нет… — Он остановился, приподнял ладонь. — Мне говорят: «Ленин хочет отдать территорию и выиграть время!» Именно так: отдать одно и выиграть другое, главное. Почему главное? Речь идет о судьбе революции. — Он остановился вновь, сейчас дампа светила сбоку, и Петр увидел на стене всю его динамичную фигуру, которую не в силах была остановить беда, какой бы сокрушающей она ни была. — Наше достоинство попрано, но, стиснув зубы… стиснув… — Ленин умолк и тихо пошел дальше. Он остановился и, нащупав ладонью крашеную поверхность двери, нетвердо оперся. — Локкарт просится на прием? — Он отнял руку от двери, усмехнулся. — Надо отдать ему должное: момент он выбрал верно. Это профессиональный нюх или осведомленность? Не раньше, не позже — теперь.
Они пошли дальше.
— Но как повернутся события завтра? — спросил Петр.
— Завтра? — Ленин взглянул на Петра быстрым, как показалось Белодеду, жестоко-суровым взглядом, взглянул, будто хотел сказать: «И ты не понимаешь, что происходит, не понимаешь, несмотря на все ненастья твоей жизни». — Завтра… то есть сию минуту? — спросил Ленин. Он продолжал идти, но теперь уже размеренно, подчеркнуто размеренно, будто отсчитывал шаги от вопроса до ответа. — Немцы пойдут на Питер, и ЦК станет перед новой перспективой, — сказал он наконец.
— Более трудной?
— Да, несомненно. — Он остановил на Петре короткий и твердый взгляд. — Но решение о мире будет принято. Кстати, может оказаться, что нам нужен будет… гонец. Да, гонец, который проложит дорогу в огне и ненастье и доставит пакет: наш протест и согласие заключить мир на условиях Бреста. — Он пошел быстрее. — Не гневайтесь, если за полночь вас затребуют в Смольный.
Был одиннадцатый час вечера, когда Лелька разбудила Петра.
— Да вставай ты, вставай, господи! Не растормошишь, не растревожишь! — Он ощутил холодную с мороза руку сестры на щеке. — Вставай, взгляни вот! По храму ходила бумага…
Петр открыл глаза: листовка. Напечатана на тетрадной бумаге. Поверх косых линеек (они несмываемы) шесть густо-черных строк: «Сегодня германская армия заняла Двинск. На очереди Псков, Ревель и Петербург». Так и написано: «Петербург». «Немецкая листовка, — подумал Белодед, — хоть и напечатана в Питере».
— Благочинный, говоришь, немецкую бумагу изловил? Орел пал! А вдруг и в самом деле нагрянут германцы? Как ты?
— А мне ничего не страшно.
Он подумал, глядя, как сестра идет из комнаты, вскинув голову, такой в самом деле ничего не страшно.
Петр стянул рубаху, раскрутил до отказа кран. Вода студено калила тело.
— Сердце выхолодишь — остановится! — крикнула Лелька.
В этот раз горит не настольная лампа, а люстра. Неужели новое заседание ЦК? Но ведь оно было сегодня утром и назначено на завтра в два.
В коридоре его встретил Кокорев.
— Петр Дорофеевич, а вас тут искали по всем путям и тропкам! Заседание ЦК! — произнес он торопливо. — Да, назначили на завтра в два, а потом перерешили. — Он двинулся к выходу, однако тотчас обернулся. — Простите, Петр Дорофеевич. — Он подошел к Белодеду вплотную. — Германцы где-то под Режицей! Километрах в ста от Двинска. Что-то решат они? — Он указал глазами в дальний конец коридора — кабинет Ленина был там. — Я вернусь через час, не могли бы вы улучить минуту. Есть разговор: важный — во! — его ладонь полоснула горло.
Петр шел, думал: «Хорош парень! И вера есть, и воинственная храбрость. Только иной раз не поймешь, когда говорит правду… А в остальном хорош, даже оружие любит, как надлежит борцу». Позавчера Кокорев принес парабеллум в деревянной кобуре — обнаружил его в подполе охтинского рыботорговца при обыске, пистолет зарос ржавчиной, и Петру стоило немалого труда заставить его действовать — любовь и верность Кокорева на сто лет вперед были Петру обеспечены.
Видно, заседание ЦК должно было вот-вот начаться.
Мелькнула кожаная куртка Бухарина.
Торжественно, на ходу поправляя пенсне, прошествовал Троцкий.
Читать дальше