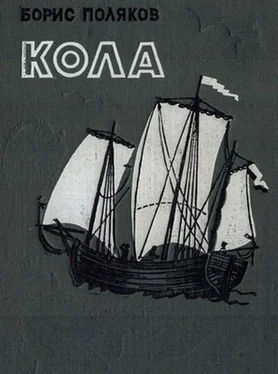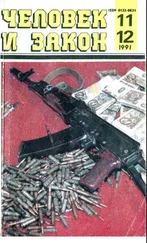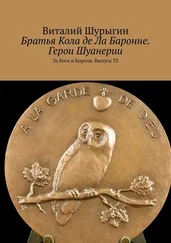Писарь, наверное, вытирал усы да не в спехе облизывал ложку.
– То, кума, дело житейское, бобыльное. То другое.
– Другое тебе. И барин тоже не Мамаю служит.
Охота спускаться вниз у Шешелова пропала. Осторожно, чтобы не скрипнула половица, он вернулся к себе и больше в ратушу не пошел. Рассчитать бы писаря за такую вольность, да где здесь другого сыщешь?
И когда, после второго стука, вошел, наконец, писарь, Шешелов вежливо произнес:
– Я сейчас занят.
Сидел неподвижно, смотрел, как писарь пожал плечами и вышел, не раскрыв рта. Это не был окрик: «Пшел на место!» Это лишь вежливое напоминание о нем. Но, хотя Шешелов был доволен собой, легче от срыва не стало. Так он с писарем. Почему бы не так с ним, Шешеловым, кто-то другой?
Ныли в коленях ноги, побаливала поясница, Шешелов узнаёт северик сразу. Сквозь щели окна, потом в плохо прикрытую дверь сочится сквозняк. И разбуженный ревматизм начинает ворочаться в суставах, словно ему там тесно. Надо сказать Дарье, что от окна дует. Затопила ли она печь наверху? Он не будет писать сегодня. Пусть потом, завтра. Сейчас ему хочется посидеть у огня и погреть ноги. Он снимет мундир, наденет теплый халат и оленьи пимы, будет смотреть на огонь, курить и не будет думать о рапорте.
И Шешелов сделал все, как хотелось. Топилась печь. Он сидел у открытой дверцы, смотрел на огонь, курил.
Ноги покоились в теплых пимах, колени грелись от пламени. В мягком, низком кресле очень удобно. Шешелов сам просил писаря обрезать ножки у кресла именно так: задние короче передних. Очень покойно сидеть и смотреть на огонь.
Когда Шешелов объяснил писарю, как нужно обрезать ножки, писарь молчал, но весь, его вид говорил: «Мне что – я обрежу. Да умно ли это – кресло портить? Лет сорок для всех оно было удобное». Чертов писарь. Он умудряется отравить Шешелову настроение даже своим видом. И сегодня – это пожатие плечами. Эдакое молчаливое превосходство: едкий взгляд и ухмылочка. Будто городничий тут не Шешелов, а этот хромой бестия. Понимает, черт, – не выгонишь. Будь Шешелов в другом месте, давно бы избавился от него. Но здесь это невозможно. Хоть и люди кругом, а житье, как на острове, – один. Правда, ему без особой надобности чье-либо общество. Независимость от горожан, книги и вырезки – это его вполне устраивает. Но иногда что-то срывается там, внутри, и тогда независимость становится одиночеством.
Как-то, будучи в настроении, Шешелов пошутил с писарем, но тот шутки не принял. А Шешелов знает: с колянами, с Дарьей писарь умеет смеяться.
Он и не глуп, этот писарь. Взять бы по-доброму да позвать его и рассказать все. Посоветовать мог бы разумное. По не позовешь теперь. «Я не вихляюсь туды-сюды». Конечно, он говорил о нем, Шешелове, но сам черт не знает, что он имел в виду. Может быть, догадывается, что губернское письмо извело Шешелова? Ничего мудреного: Почта ушла, ответ в губернию не написан. И о разговоре со стариками писарь наверняка знает. Все они тут одним миром мазаны. Однако сам о границе смолчал тогда. Боится наказания? Или соглядатай исправника? Шешелов иногда позволяет себе мысли вслух, не стесняясь его присутствия, а надо осторожнее. И эту молчаливую спесь следует сбить. Писарь хром, значит в солдатах он сроду не был. Взять и спросить его как-нибудь: «А ты вот, к примеру, знаешь, что такое война? А штыковая атака?» Да, именно штыковая.
...Тебя от земли отрывают будто с корнями, трудно, и бросают в бег чьи-то слова команды. И ты бежишь. Но это больше уже не ты: рот перекошен истошным криком, нет памяти, мыслей, только, набухнув звериным страхом, кричат из тебя все жилки тела: выжить бы! выжить! выжить!
И рядом бегут такие же – с почти невидящими глазами, с раскрытым зевом, с обезумевшей мольбой в глазах: чур меня! чур меня! чур!
Знаешь ли ты, писарь, как слаба плоть людей под штыком? Слышал ли ты когда-нибудь хруст ломающихся костей? А леденящие кровь вопли страха, боли, отчаяния, одинаковые на всех языках?
Он, Шешелов, безусый новобранец, вчерашний крепостной, убивал. Он делал все, как учили: бил прикладом и втыкал штык в чье-то тело. И зверел, и кричал при этом. И, визжа от страха, сам увертывался от чужих ударов, чтобы не быть убитым, и убивал, убивал. Потому что бежать из этого ада еще страшнее: нет страха сильнее, который ощущается спиной.
Да, он убивал таких же, с какими мог бы вместе идти на гулянье или выпить на ярмарке, а под старость просто по-соседски сидеть в летних сумерках на деревенской улочке да толковать о видах на урожай, о сенокосе или предстоящих крестинах у чьей-то кумы...
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу