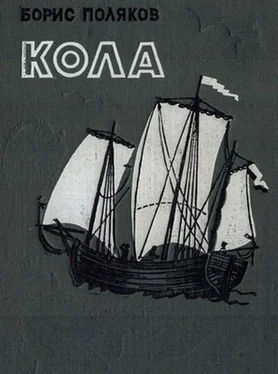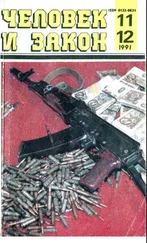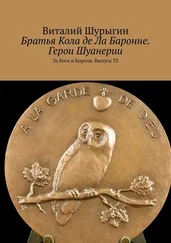За трое суток новой жизни он не ел почти и не спал. И еще неизвестно, как впереди все будет. Правда, сейчас можно где-нибудь лечь, свернуться, постараться забыть, что было. Но жердяи бродят невдалеке. И с них станет жемчуг силою отобрать. Не успеешь сказать офицерам слова. Да и в трюме пугающий стук машины напоминает, что стрельба закончилась ненадолго и скоро опять начнется. В этом сомнений не было. Офицеры про Лицу слушали с интересом, похоже, что понимали.
Корабль на полном ходу шел, спеша, будто гнал скорее от места, где прежде был город Кола. На палубе ветрено, и Смольков, унимая дрожь в теле, устало смотрел на залив, на то, что осталось теперь от Колы. Вспоминались Маркел блаженный, суд стариков, Афанасий, Андрей, Сулль на акульем лове. Тот любил говорить: кому быть повешенным – не утонет. Сам нашел свой удел в реке. А Смолькову недолго осталось маяться. Он потрогал на себе пояс. Жемчуг только надо сберечь. Пооглядывался, высматривая жердяев. Если станут еще приставать – к офицерам надо кидаться. Они спасут.
И опять старался думать о скорой воле. Как все будет на самом деле? Жемчуг как продаст он, превратит в деньги, как свою жизнь устроит? Но сладкие мысли о ней почему-то сегодня не приходили.
Все из-за жемчуга, из-за жердяев. И как его сохранить от них?
К Смолькову подошли сзади и тронули его за плечо рукой.
– Иван!
Врасплох застигнутый, Смольков вздрогнул, успел себя ругнуть, что не слышал, как к нему подошли, и замер с готовой улыбкой. Двое стояли. Жердяи все те же, здоровые, молодые. По-хозяйски они стали ему задирать рубаху и пояс с него снимать.
Смольков вдруг увидел, что на палубе много солдат, матросов. Они выбегают еще и еще из трюма. Кто-то выкрикивает команды, и все строятся по рядам.
И звериным чутьем, выручавшим в бегах не раз, Смольков понял: беда к нему. И рванулся весь к офицерам: им фарватер показывал! На колени скорее! К ним! Завыть слезно в голос. Причитать и просить! Просить! Ничего кроме жемчуга в жизни нету. Гол кругом, пощадите! Разве даром он рассказывал им про Лицу, объяснял па пальцах, старался чертить на палубе?! Ведь кивали они – поняли, уяснили. И стрельбу прекратили из пушек скоро и снялись с якоря.
Но жердяи поймали его легко. Один сильно рванул за плечо, другой резко ударил его под дых. Боль скрутила Смолькова, сбивая с ног, согнула на палубе в три погибели. И сквозь боль лишь мелькнуло: за что же эдак меня? за что?! А жердяи подняли его, поставили, пояс ловко с него сорвали. Он Смольковым прошитый любовно был, для каждой горошины место отдельно в нем. А они на палубу его кинули, у всех на виду. От боли сильно рябит в глазах, к горлу просится рвота. Смольков битый стоял, ограбленный. И никак не мог понять, что случилось. Успел лишь заметить: смотрят все на него – угрюмо, без доброты. А пояс никто не тронул.
Потом жердяи подталкивать его стали. И он пошел. Матрос с реи спускал веревку. Нижний ее конец болтается на ветру петлей. Осенило, без страха даже: это ему, Смолькову.
И бунтарская кровь всплеснулась в Смолькове жарко. Не просить на коленях слезно, а взъярить офицеров надо. Разжигая в них бешенство, от жердяев отпрыгнуть да заорать: «Не вышло?! – Локоть в пах упереть и качнуть кулаком. – Съели?! И пушек город не побоялся! Сожгли, а победы нету! На сухом постоять не дали!» – Да схватить еще пояс, швырнуть с маху за борт его, да чертом пройтись в приплясе...
Но всплеснулось только на миг. Боль и слабость в побитом теле, и нету сил. Он не может устроить веселье своей душе. Не из тех. Те остались все в Коле. И понял вдруг, что устал, не только телом – устал измаявшейся душой. Будто вынули сердцевину. В прошлом не было радостей, а впредь Кола перед глазами будет всегда гореть. И от этого никуда не деться.
Один он.
Совсем один.
Жердяи руки ему завернули, связали туго. И он подумал будто не о себе: «Сейчас повесят». Не стал даже спрашивать, почему. Только горькая пришла мысль: «Неужели за петлей надо было идти сюда? А как же воля? К ней столько пройдено было лет!» И почувствовал: силы его оставляют. Он обмяк, ноги подкашивались, не шли. Жердяи взяли его под руки, повели. Где болталась веревка, поставили на бочонок, притянули к самой голове петлю. Смольков не видел солдат, матросов. Стояли только ряды сапог, добротных, с подковками. Таким износу вовек не будет. Это им офицер читает свою бумагу. Голос громкий, тоже будто подкован.
Смольков смотрел равнодушно на сапоги.
Скоро все это кончится.
Теперь кончится навсегда.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу