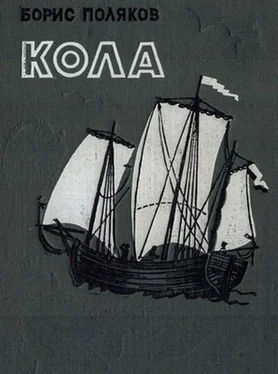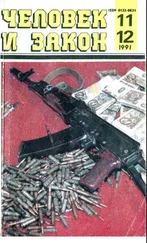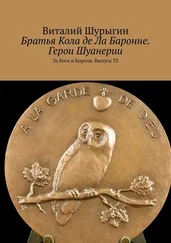– Матвей Алексеевич... – Шешелов мира хотел.
– Думаешь, я помру скоро? – синие губы искажены злостью. – А это видел? – И показал кукиш. – Вы скорее все отомрете.
Шешелов было шагнул к нему, но писарь отпрянул, костлявый и немощный, раскорякой слезал со шняки.
– И после меня еще будут люди. Не всех околпачили. Они живут уже, эти люди. Есть! И они дождутся своего часа. Ни той, ни этой земли не простят. Можете все отдать! Не ваше! Но они не простят! – Писарь говорил неумолчно, осклабясь. Шешелов не мог слова вставить. Поодаль Пайкин среди зажиточных. Они оборачивались уже, обращали на них внимание. Шешелов сжал кулаки, повернулся, налитый яростью, молча пошел за башню. Шел словно сквозь строй, не поднимал глаз. «Дохляк! Да как ты посмел!»
И сел за башней в тени, закрыл глаза. От гнева его потрясывало. В памяти писарь еще стоял, болезненный, неуклюжий, злой. И хотел себя успокоить: «Не все могут думать как он, не все. Его за землю пороли, позорили принародно. Она тяжкой судьбой ему, горем помнится. А теперь и здоровье взяла болезнь. Собакою на любого взлаешь».
– Неплохо устроились, – сказал четко голос, и Шешелов приоткрыл глаза. Пушкарев подходил к нему, трезвый, выбритый, в выглаженном мундире. – Я думал, здесь все каруселью вертится, а тут сонное царство. Вы дремлете в холодке.
«Что, и этот с упреками? Впервые с постели встал? Но его хворь – не писаря». И сухо ответил:
– Извольте скромнее быть. Не меня послали защищать город. – И вспомнил, что мира только хотел со всеми. Добавил ворчливей, мягче: – Сильно не развертишься. Шестнадцать пушек на корабле.
Пушкарев еще мало поправился, бледен лицом, и стоять ему еще трудно. Привалился плечом к стене.
– Я слышал. Мы пожива невелика им.
– Видимо, велика, коли не десант шлют. – И подвинулся на доске: – Присаживайтесь. Такой паровик при пушках и Архангельску пригрозить мог бы. Там, пожалуй, их тоже в глаза не видели.
– Коляне думают, что зимовка ему нужна. Он непременно захочет взять город.
По весне разговоры с Герасимовым и благочинным долгие велись. Верно они предсказали судьбу подключных морей, Колы.
— Мои мысли еще печальнее.
– Отчего же так?
– Наши земли студеные, на отшибе России. И правительство драться, похоже, за них не станет. Так что, думаю, не зимовки судьба на весах, а Колы.
– Мы, выходит, обречены? Или вы на что-то надеетесь?
— Надежды слабые. Может, из пушек в жителей бить не станут, если им нужен город. Больше всего страшусь пушек.
– Иван Алексеевич, – у Пушкарева голос несвойственный для него, просительный, – скажите Бруннеру: пусть даст мне один отряд.
– Вам? Для чего это?
– Пусть наперед знают: без боя не обойдется. Рукопашной поучу их.
– При вашем здоровье?
– Как отца родного прошу, Иван Алексеевич.
– Когда же вы учить станете?
– Сейчас.
Мысль похожую Бруннер тоже высказывал: нельзя в бездействии. Сейчас. Пусть наперед знают. Оба правы они, не Шешелов.
– Что ж, извольте. Не здесь только, ступайте в крепость. – И смотрел, как пошел Пушкарев мимо Пайкина и зажиточных на нижний посад искать Бруннера. «За ранение чувствует себя виноватым. Что ж, похвально. Только хворый он еще, рана бы не открылась».
И почувствовал себя виноватым: в бездействии провел день. А англичане не будут стрелять из пушек. Им стан для кораблей нужен. Они десантом будут брать Колу. Десант же не чай придет пить. И Пушкарев, не ведая того, прав: надо учить отряды. Бруннер пусть тоже этим займется. И душой надо всех воедино слить: к благочинному, на молитву. Он им доброе слово скажет. Герасимов безоружных пусть соберет, на случай пожара составит из них команду. Дворы пускай обойдут, проверят еще раз багры, топоры, воду. Исправника к ним приставить, он в усердии землю копытом взроет. И, довольный, хотел уже было встать, идти, но увидел: к нему направился Пайкин.
– Доброго вам здоровья, – приподнял картуз старенький, поклонился. – Здравствуйте.
В душе благодарностью отозвалась его приветливость. А ведь писаря он мог слышать.
– И вам здравствуйте.
– Измаялись вы в заботах, Иван Алексеич.
– Все измаялись.
– Страх измором враги нагоняют.
– Есть, – с улыбкой признался Шешелов.
– А как не страшиться? Начнут из пушек палить и, что строили, наживали своим трудом, враз загубят.
Пайкин, сказывали, нажил состояние на контрабанде норвежским ромом. Потом уже торговлю завел, покрут.
– Участь, видно, наша такая.
– Так, так. За грехи. А более виноваты сами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу