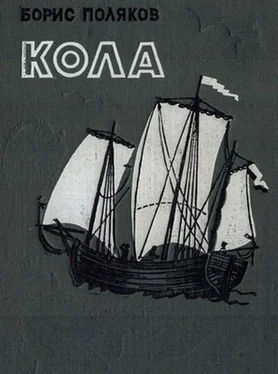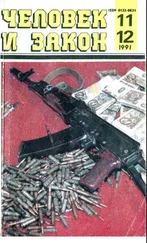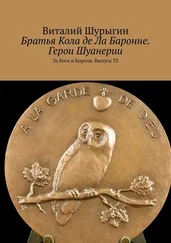Не жалея себя, жертвуя всем, что дорого, они за двадцать долгих часов проживут не одну жизнь, умирая и возрождаясь, и познают высокую цену святого долга и уважения к себе и своим делам.
И в чьих-то планах сломается весь расчет: пушки смолкнут недоуменно, не в силах сделать большее, чем смогли, – место, где стоял в веках город, станет голым и черным.
И только как памятник людской преданности своей земле на черном поле останется каменная церквушка. Ее беленые перед пасхой стены исхлещет пламя и закоптит, сгорят ее купол шатровый, крыша, и лишь в пролетах каменной колокольни уцелеют чудом колокола. Они подплавятся и потеряют от огня форму, но даже при малом ветре их надтреснутый голос будет жить над сожженным городом еще долго, пугая в ночи одичавших кошек и тревожа в вараках эхо, словно это не медь, а сама исстрадавшаяся земля стонет пустошью и зовет, как прежде, к себе людей.
Потом наступит длительное ненастье. Дождь придет и обрушится сильным ливнем. Словно каясь за опоздание, он косыми полными нитями будет хлестать тлеющий в головнях жар. Запарит накаленная от огня земля, взмокнет черное поле пожарища, и в залив потекут сотни черных ручьев, унося с собой угли, золу и пепел.
А когда последняя искра огня угаснет и остынет парящая земля, дождь еще будет лить и лить: обложной, тихий, молчаливо и неутешно, словно в горе великом омывая слезами запекшуюся в большом огне землю.
Но о том, что все это будет, в мире еще никто не знал.
79
Был понедельник, день приема чиновников. Они заходили несмело, по одному, кланялись от порога. Шешелов в свежей рубашке, мундир расстегнут. Он в добром расположении духа. В кабинете приятная свежесть, вымытые полы. За открытыми окнами солнце, в мураве чирикают, возятся воробьи. День сулился быть опять ведренным.
Часы били десять. Почтмейстер последним замешкался у двери. Не пришел только Бруннер. А Шешелов скоро намеревался прием закончить и ехать с ним на Еловый мыс: там хотели нынче начать редут. Пайкин ждал со дня на день шхуну из Гаммерфеста и обещал с нее медные небольшие пушки.
Неожиданно ударили в большой колокол при соборе. Одинокий, тягучий гул. И Шешелов вздрогнул: набат? Вещая беду, сжалось сердце. Почтмейстер замер и побледнел. Колокол снова ударил – сильнее, громче, и следом сразу же два других вразнобой загудели тревожными голосами. Почтмейстер запятился в дверь, с мест вскочили дворянские заседатели, стряпчий, бухгалтер, уездный судья. Волны тягучего гула хлестали в сердце. Шешелов трудно поднялся с кресла, опираясь о стол, пошел к окну. Двор по-прежнему заливало солнце. На привязи мирно паслась коза. К воротам крепости потрусили гуськом чиновники. С крыльца спускались последними казначей и исправник. На каменной колокольне тоже ударили буденные колокола. Небольшие, они закричали звонко, как под розгами дети. Шешелов тер рукою под сердцем. Набат бил, звал, гудел и, казалось, вынимал душу. В кабинете сдвинуты с места стулья, смяты половики. Со стены по-прежнему безмятежно взирают портреты царской фамилии. «Доигрались, картежники! Теперь надо за вас платить». Шешелов был один. А чиновники побежали не за ружьями по домам – глазеть за крепость. «Господи, где же Бруннер?!» Инвалидных с оружием, добровольников видеть сейчас хотелось. И расслабленно опустился в кресло, закрыл глаза. Он страшился этого дня с весны, когда Сулль упредил их о грабеже. Сулль... Нет, пожалуй, еще пораньше, когда сел за письмо в губернию. В марте. Страшился врага, безоружности города, пожарищ, насилия, грабежа. Случилось. Боль под сердцем медленно отпускала. Надо идти за крепость. Бруннер, похоже, там. И поднялся, забрал со стола табак, оглядел, как прощаясь, свой кабинет. Неужто все же случилось?
По пустынному двору крепости шел прямиком по траве, один. Набат не смолкал. Не просто, видно, переполох. Шешелов шел тяжело, медленно, словно хотел тяжесть будущего отсрочить.
За башней собралось все летнее население Колы: старухи, старики, бабы. Отец Иоанн что-то им говорит, говорит. На стенах крепости – вездесущие ребятишки. Бруннер поодаль строит отрядами инвалидных и добровольников, горячится, размахивает руками. А залив совершенно чист. У Фадеева ручья черным деревом стоит дым. И на левом берегу, за Еловым мысом – тоже. Сигнальная бочка смолы горит и там. Но что с обоих постов увиделось? И спросил подошедшего к нему Герасимова:
– Отчего зажжены сигналы, Игнат Васильич?
– Неизвестно пока, – глаза Герасимова тревожны. – Бруннер послал на оба поста узнать. Но, похоже, не гости едут.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу