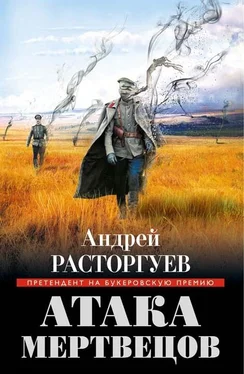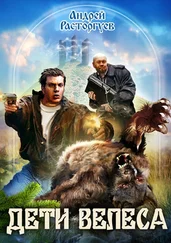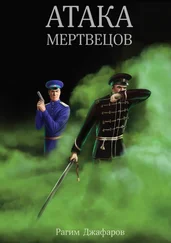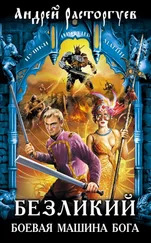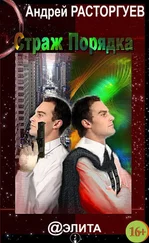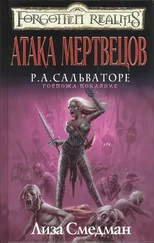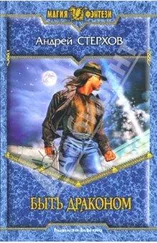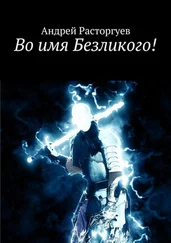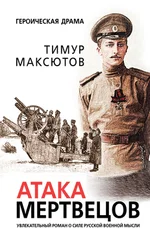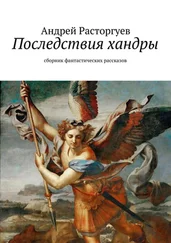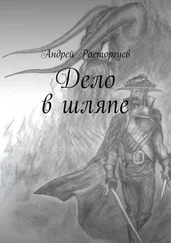Впереди было целых три года войны. Долгих тысяча с лишним дней и ночей бесконечных боев, смерти, плена, пожаров, горя, нищеты, голода и страха…
Что же стало с теми, кто защищал Осовец и подступы к нему на юге и на севере?
Все вполне предсказуемо – они просто продолжали сражаться. Каждый в меру своих сил и способностей. Кто сложил голову, кто смог выжить и дойти до конца, но все, от рядового до генерала, не жалели своих жизней в борьбе с врагом, став истинными героями, хоть таковыми себя и не считали.
А в 1917 году произошла революция. Даже две революции, последовавшие одна за другой, которые раскололи русский народ на два враждующих лагеря. Линия разлома безжалостно прошлась и по армии, разметав по разные стороны баррикад бывших однополчан и соратников по оружию. Так и вышло, что те, кто сражался до этого плечом к плечу, превратились в непримиримых врагов и стреляли друг в друга на фронтах уже другой, гражданской войны.
Не стали каким-то исключением и наши герои. По-разному сложилась у них жизнь.
Буторов, к примеру, в том же 1915 году решил оставить медицинскую службу и добровольно перевелся в строй. Вступил вольноопределяющимся в Лейб-Гвардии Уланский полк. С тех пор участвовал в боях уже кавалеристом. Революцию встретил в чине офицера все в том же полку. Вместе с другими офицерами пытался противостоять набирающему силу разложению армии. Но разве можно бороться с ураганом?
В начале 1918 года Николай Владимирович перебрался в Петроград, где шесть месяцев прожил по поддельным документам. Позже ему удалось нелегально выехать в Швецию. Оттуда отправлял офицеров на Архангельский фронт. Потом работал в Мурманске. Борьба с «красными», как известно, закончилась полным разгромом Белой гвардии. Уцелевшие, спасаясь от красного террора, подались в эмиграцию. Вместе с ними и Буторов. Судьба забросила его во Францию в 1922 году. Там он и жил до самой своей смерти, до 1 ноября 1970 года. Николаю Владимировичу исполнилось тогда восемьдесят шесть. Его похоронили на парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Борис Николаевич Сергеевский с переименованием 3-й Финляндской стрелковой бригады в дивизию был назначен исполняющим должность начальника штаба отряда генерала Промптова, в состав которой входила дивизия. Прорыв германской гвардии в мае 1915 года на стыке 18-го и 22-го корпусов был предотвращен благодаря в том числе и его стараниям. За это Сергеевского наградили Георгиевским оружием. С августа он уже в штабе 40-го армейского корпуса в качестве штаб-офицера для поручений. Вскоре получил подполковника. Под командованием генерала Брусилова участвовал в Луцком прорыве. В марте 1917 года назначен штаб-офицером в Управление генерал-квартирмейстера при штабе Верховного главнокомандующего, где отвечал за связь. Там же стал полковником. Это было в августе, а уже в октябре Временное правительство произвело его в генерал-майоры. Только вот не признал он это производство. Не в чести были «временные» у Сергеевского. Потому никогда себя генералом не именовал.
Перед тем как октябрьский вихрь докатился до Ставки, Борис Николаевич, не дожидаясь «красных», взял отпуск и отправился в Тифлис, в штаб Кавказской армии. Когда в 1918 году правительство Грузии расформировало Русскую Закавказскую стрелковую дивизию, он подался в штаб Добровольческой армии в Екатеринодаре, став там обер-офицером для поручений при генерал-квартирмейстере. Далее в разное время был помощником начальника оперативного отделения штаба Вооруженных сил Юга России, начальником штаба 5-й дивизии Крымско-Азовской Добровольческой армии в Мелитополе, начальником службы связи Добровольческой армии. В апреле 1920 года в Крыму, последнем оплоте Белого движения, Сергеевского назначили преподавателем в Константиновское военное училище в Феодосии. Но не довелось ему мирно преподавать. С августа по сентябрь он со своими юнкерами участвовал в десанте генерала Улагая на Кубани. Дерзкая операция, тщательно спланированная Врангелем, закончилась неудачей. Улагай, вместо того чтобы без оглядки, как можно скорее наступать на Екатеринодар, остановился для перегруппировки, упустив из рук важное преимущество – внезапность. В итоге их прижали к морю. На небольшом клочке земли десант бился с врагом, имевшим значительный перевес. К неприятелю шли подкрепления со всей необъятной России. А юнкера, еще молодые, неоперившиеся птенцы, умирали, не получая никакой помощи. Это была последняя войсковая операция, в которой Сергеевский принимал непосредственное участие.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу