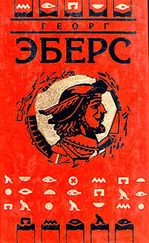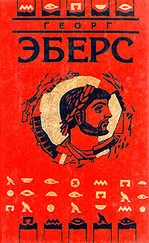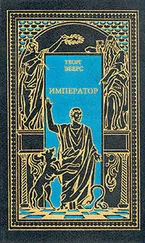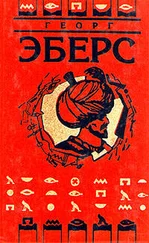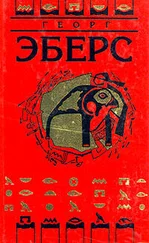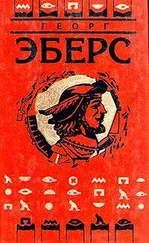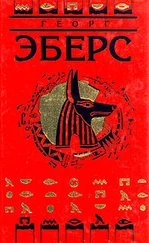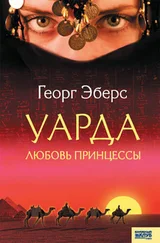Если Миланский эдикт явился началом становления христианства религией общеимперской, то Никейский собор заложил прочный фундамент для превращения ее в религию мировую. Со времени правления Константина церковь выступает как мощный инструмент политической власти.
Несмотря на то что сам Константин принял крещение лишь незадолго до смерти, за действительно неоценимый вклад в дело развития и укрепления христианства церковь причислила его к лику святых, нарекла Великим и признала образцом христианского правителя.
«Homo sum», как и роман «Тернистым путем», отчасти продолжает раскрывать тему становления христианства в Египте, однако основное место в этом произведении Эберс уделяет показу еще одной чрезвычайно интересной и характерной грани, вернее, тенденции генезиса новой религии – стремлению некоторых ревностных христиан приобщиться к вере, не только чисто внешне приняв ее заповеди и догматы, но также постичь ее глубинную сакральную сущность, взглянуть на нее как бы изнутри, увидев не глазами обыкновенного верующего человека, а глазами самого Христа – страдальца, искупителя грехов всего человеческого рода. Для осуществления труднейшей задачи – еще при жизни умереть для греха и духовно ожить для Христа – самые мужественные адепты христианства становились отшельниками. Отказавшись от своего социального статуса, они покидали семьи и уходили в безлюдные места – горы и пустыни, селились в пещерах или убогих хижинах отдельно друг от друга и во имя «приближения Царства Божьего» обрекали себя на одиночество, суровые лишения и страдания, что, по их глубокому убеждению, позволяло приблизиться к духовному совершенству, испытав хотя бы малую долю мук, которые принял на себя Спаситель.
Первые анахореты появились в Египте еще в середине III века. Ведя «жизнь любомудрственную», они непрестанными молитвами смиряли в себе «дух гордыни» и «умерщвляли плоть» самоистязаниями и постами, трудились на пользу свою и бедных (плели корзины и циновки, возделывали небольшие огороды). Поначалу незначительное число анахоретов возросло за счет мучеников и последователей. Люди шли к «святым старцам» со своими житейскими заботами и горестями, ожидая от них утешения, вразумления, дельного совета. Каждой общиной пустынников, как правило, руководил духовный наставник авва (сирийск. отец, игумен). Так, по сути дела спонтанно, в недрах христианских общин Египта и Сирии зарождался институт монашества.
Родоначальником монашества по праву считается египетский отшельник Афанасий Великий (ок. 250 – 356). Выходец из состоятельной коптской семьи с севера Фиваиды (область вокруг г. Фивы), он двадцати лет от роду роздал все свое имущество и вскоре поселился в пещере на берегу Нила. В ней несколько десятилетий прожил он уединенно, лишь изредка поддаваясь на просьбы лиц, жаждавших видеть и слышать праведников. Во время максимиановских гонений Антоний ходил в Александрию, ободрял христиан, появляясь в наиболее опасных местах; после окончания гонений ушел еще дальше – на берег Красного моря. Оттуда приходил в Александрию только однажды, около 335 года, по настойчивому приглашению епископа Афанасия1 для обличения ариан. Двум ученикам, ходившим за старцем в последние 15 лет его жизни, он запретил показывать место своего погребения из опасения обоготворения. Антоний «освятил монашескую отшельническую жизнь», однако после его смерти возникшая вокруг него свободная община пустынножителей сразу же распалась. Такая же участь постигла и общину известного палестинского отшельника Иллариона. Не менее знаменитый египтянин, тоже копт, Пахомий ранее других церковных деятелей понял, что монашество как институт может развиваться только в рамках детально и тщательно продуманной организации; он еще в 320 году создал самый первый христианский монастырь со строгими правилами пребывания в нем отшельников. Со временем выработался особый обряд принятия (пострижения) в монахи, предусматривающий обязательные обеты безбрачия, бедности, послушания, ношения особой одежды и проч. Жесткий устав, регламентированный распорядок дня, железная дисциплина, обязанности ежедневно трудиться в меру сил и способностей не позволяли членам обители опускаться физически, дичать умственно и нравственно, что являлось уделом большинства свободных анахоретов: ведь далеко не каждый из них обладал достаточно твердой волей и силой духа. И на примере отшельнической жизни своих героев Эберс убедительно показывает, как мучительно трудно, а подчас и невозможно бывает человеку навсегда разорвать многочисленные нити, связывающие его с цивилизацией. Даже юноша Ермий, практически всю свою сознательную жизнь проведший в пустыне, поначалу инстинктивно, а потом осознанно тянется к большому миру, ко всему тому, чего он был лишен вопреки собственной воле и что представляется ему более необходимым и нужным. Он решительно порывает с анахоретством. Не менее решительно отрекается от своего показного, как оказалось на поверку, смирения Стефан, который «18 лет благословлял своего злейшего врага» и почти убедил себя в том, что окончательно простил его. Однако, неожиданно снова столкнувшись с Фебицием лицом к лицу, без колебания отдал вечное блаженство там, на небесах, за краткий миг упоения праведной местью здесь, на грешной земле.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
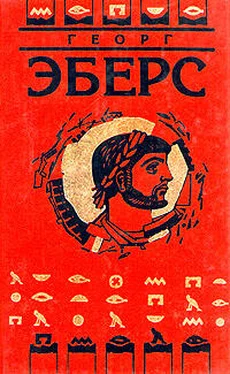
![Георг Эберс - Тернистым путем [Каракалла]](/books/5831/georg-ebers-ternistym-putem-karakalla-thumb.webp)