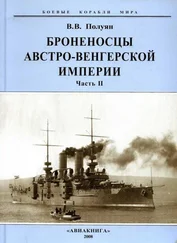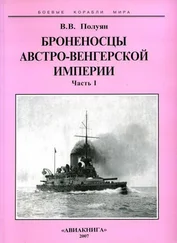- Не считай, будто ты одна, - уговаривала боярышня. - Нас всё же двое. А амма Гнева? А двенадцать её сестёр? У нас множество врагов, а мы вместе. Сама страшусь одиночества. Надвигается сырой тучей. Чую студное дыхание. Сония ужасны, боюсь спать. Батюшка нехорошо снится. Видела, он, будто беззенотный, ходит, растопырив руки, ищет путь. Стремлюсь направить, не достигаю: глубокий ров разделяет нас. Да ты спишь? Мжишь веки? Спи пока спокойно. Мы в монастыре. Хоть ты и латынка, мы под защитою всех наших святых, под молитвенным их покровом…
Карета стучала, скрипела и продувала всеми своими щелями. Не карета, а таратайка. В разбитых оконцах с остатками слюды виднелась скачущая малая обережь, всего-то человека три - Кумганец и двое недавно нанятых. С ними скакал, выделяясь дородностью, всадник в тёмном бахтерце, сам боярин Иван Дмитриевич Всеволожский. Он поспешал с дочкой и её спутницей в освобождённую от Василиуса Москву.
Прибывавшие в монастырь вестоноши друг за другом сообщали праздничные для боярского сердца вести: на Клязьме в двадцати вёрстах от столицы бывший великий князь наголову разбит Юрием Дмитричем и его сыновьями. Убежав с поля боя, захватив в Кремле мать с женой, «проклятый племянник» пытался укрыться в Твери, да, видимо, непривеченный там, бросился в Кострому, где и был поят людьми дяди-одолетеля.
Евфимия старалась не размышлять об этом. Она вспоминала недолгое, размеренно-тихое житие в Доме Преподобного Сергия, в особенности же свои частые посещения храма Живоначальной Троицы. Даже латынка Бонедя, не входя внутрь, любовалась храмом, говорила, что он похож на Троицкий Краковский собор, называемый ещё Богородичным. Евфимия подолгу простаивала перед иконой Пресвятой Троицы, написанной иноком Андреем Рублёвым, совсем недавним обитателем дольнего мира. Жизнями они соседствовали: он почил перед тем, как боярышня появилась на свет. И оставил эту удивительную икону. Евфимию завораживали три крылатых странника за столом перед чашей и предстоящий им библейский патриарх Авраам. Боярышню поражали не ангельские крыла, не чаша, не число три, а то, какими средствами иконописец как бы отдёрнул перед нею завесу иного, непознаваемого мира, сумел передать узренное им откровение. Среди мятущегося времени, в коем она жила, среди раздоров, междоусобных распрей, всеобщего одичания и татарских набегов, среди глубокого безмирия, растлившего Русь, её духовному взору открывался бесконечный, невозмутимый, несокрушимый свышний мир. Вражде и ненависти, царящим в дольнем, противостояли взаимная любовь, вечное согласие, безмолвная беседа, единство душ мира горнего. Даже лазурь здесь более небесная, нежели земное небо. И премирная тишина безглагольности. И высшая друг перед другом покорность. Здесь всё пронизано любовью, которая выше пола, выше возраста, выше всего земного, как само Небо…
- Цо пани хмура? - спросила сидевшая рядом Бонедя.
- Не хмура, задумчива, - отвечала Евфимия и обратила внимание, что шляхтянка всё время держит руку за занавескою своего сарафана, то есть за передником с рукавами. - Что ты там прячешь?
- Так, - поджала губы полячка. - По-московлянски сказаць: на всяк случ…
Карета остановилась. Евфимия не успела допытать спутницу о её сарафанной тайне.
- Батюшка, что стряслось? - выглянула она в оконце.
- Подпруга ослабла, - подъехал Иван Дмитрич. - Чрезседельник сполз набок.
Боярышня вышла размять затёкшие от долгого сидения члены. Бонедя выскочила за ней.
Первый майский день не радовал ни теплом, ни солнцем. С пятого апреля, со дня мученика Федула, которого Полагья называла «ветреником», этот Федул как, по её выражению, «губы надул», так и дует, и дует. А со стороны Москвы по наезженному пути движутся хмурые, как непогожий день, всадники и тянут на смычках пеших людей в ошейниках. Кто одного, двоих, а кто и десятерых.
- Наши едут, своих ведут, - мрачно хмыкнул Кумганец.
Она догадалась, что возвращаются воины Юрия Дмитрича, отпущенные после клязьминской битвы с полоном из московлян.
- Куда же им столько пленников? - спросила отца боярышня. - Возьмут себе в рабство?
- Вряд ли прокормят, - покачал головой Иван Дмитрич. - Скорее всего, продадут татарам.
- И не стыдно продавать своих? - возмутилась Евфимия.
- Вятчане! - одним словом пояснил Всеволож. - У вятчан стыда нет. Ещё покойный владыка Фотий их за многожёнство корил, за сожительство без венца, запрещал замужество ранее двенадцати лет, вино до обеда, брань именем матери. А что толку? До шести жён набрать или христианина иноверцу продать - для вятчанина всё едино.
Читать дальше