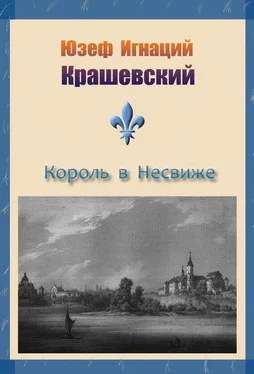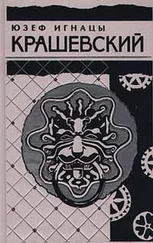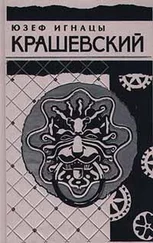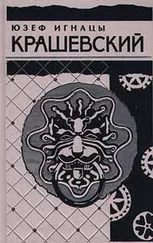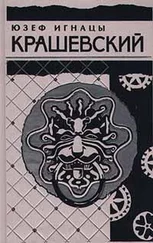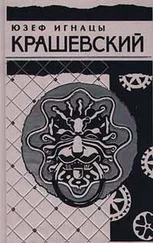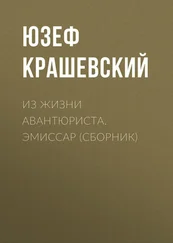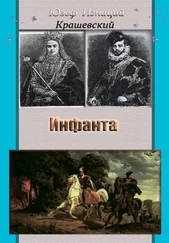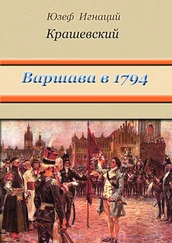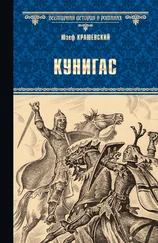Панна Моника, которая имела некоторые расчёты на наивного Русина, не желала, чтобы он был к ней безразличен. Третьего дня она начала спрашивать, не болен ли он. Ей отвечали, что только возле приёма кормов был занят. Но вечерами не привозили их; итак, что же означало его отсутствие?
Её это гневало. Она вовсе не была в него влюблена, но по её расчётам выпадало, что для будущего супруга очень ей казался приличным. Рекомендовались к ней другие, но этих она не хотела себе, потому что не думала пойти под ничьё господство, но сама хотела быть госпожой.
К ней благоволили генералова, князь, она уверена была в приданом и положении. Филипп был работящий, спокойный… остальное она себе сделать из него обещала. Фамилия вовсе её не поражала и не имела значение для неё, не рассчитывала никогда на неё, только на протекцию князя. Следовательно, угадать ей было невозможно, что отдаляло Филиппа! Четвёртого дня она уже так была неспокойна, что под видом какого-то поручения, послала горничную, дабы привела к ней Русина.
Она ждала его на крыльце, взявшись за бока, сердитая на неблагодарного. Филипп, когда ему дали знать, сильно смутился, но отказать не мог. Сложил регистры и побежал.
Панна Моника угрожала ему уже издалека.
– Что с вашей милостью происходит? – вскричала она. – Третий день в глаза мне не показываешься. Что же это значит?
Дрожащий Филипп поцеловал ей руку.
– Как Бога моего люблю, – начал он живо, – если бы панна Моника знала, что я имею сейчас за работу! Выше головы! День и ночь! Не вздохнуть!
– Ах! Ах! Что там ваша милость мне говорит! – прервала красивая панна. – Все вы такие. Уже где-то новое ситечко…
– Где мне о каком ситечке думать! – простонал Понятовский. – Я обед съесть не имею времени.
Панна пожала плечами, но смягчилась.
– Не нужно просто головы терять, – сказала она, – а своей дорогой не забывать о тех, кто добра желает. Я думала уже, что ты заболел.
– Я бы и на болезнь времени не имел. Наскакивают враги, нет помощи! – отозвался Филипп.
– Приди вечером в сад, – прошептала она, видя приходящих, и исчезла.
Вечером Филипп должен был явиться и панна подвергла его допросу, но он не изменил. Она очаровала его ещё больше, но так как не догадалась о деле, которое он скрывал от неё, не расспрашивала его даже. Она убедилась, что он не остыл – об этом была речь.
Филипп тоже успокоился, что не будет посягать на признания и нет опасений, таким образом, как раньше, обещал являться по приказу. Монисия использовала его для малых услуг.
Из двора никто также, хотя раньше его иногда той фамилией Понятовского преследовали и передразнивали, теперь, казалось, её даже не вспоминали. Шерейко только иногда проскальзывал, чтобы ему духу придать и убедиться, что не трусит. Для него вся вещь по большей мере была в том, чтобы и король «сглупил», как он выражался, и князь «взорвался», и эти триумфы и аплодисменты хоть маленькой финфой короновались. Состряпать трюк тем величинам, к которым он имел жестокий зуб, было для него неоплаченным восторгом. Шерейко не был в сущности злым, но теории века, разнообразное чтение, труднопонимаемое им, сделали его страстным демагогом. Не имея возможности тем так называемым тиранам ничего сделать, по крайней мере маленькую шалость рад был состряпать, которая, впрочем, никому ничего плохого учинить не могла.
Он был уверен, что князь, хотя с виду рассердится, потихоньку потом будет смеяться. У Филиппа всегда что-то должно было испечься; что касается короля, хотя бы он сделал гримасу неудовольствия… Он жил в атмосфере, в которой его не любили, и наслушался про себя несусветных вещей.
Вместе с Филиппом теперь в великой тайне редактировали просьбу к королю, которую при устной рекомендации имел Филипп вручить наисветлейшему пану, чтобы забытым не была. Русин регистры как-то так ещё поддерживал, но в написании петиции показал себя таким неловким, что Шерейко должен был ему сам полностью продиктовать её. Остерегался только писать так, чтобы не быть потом привлечённым к ответственности.
На потолке в большой зале Эстко, прикрывшись старыми простынями от любопытных глаз, потому что не мог терпеть, когда без разрешения подглядывали, рисовал уже гениев добродетели и мудрости, об эмблемах которых он должен был даже с князем Канембринком советоваться. Он теперь убеждался, приступая к делу, что задание было трудное и неблагодарное. Добродетель не могла быть очень молодой, мудрость тем паче. Ни одного красивого лица, ни одного идеала не мог поместить на потолке!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу