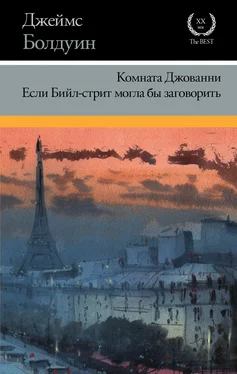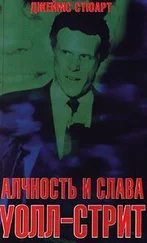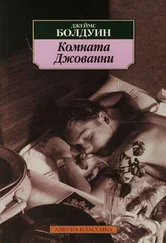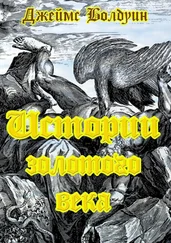– С тобой нельзя говорить серьезно, – сказал я.
– Еще как можно, – возразил Джованни. – И сейчас я говорю серьезно. А вот тебя понять не могу. – Он тяжело вздохнул, налил себе еще кофе и поднял с пола бутылку коньяка. – Chez toi [75] У тебя ( фр .).
все всегда запутано и сложно, как в английских детективах. Твердишь: узнает, узнает – будто мы преступление какое совершаем. Нет никакого преступления.
И Джованни налил себе коньяку.
– Просто она очень расстроится, если узнает, вот и все. Сам знаешь, как грязно говорят о… таких отношениях. – Я замолчал. По выражению его лица было понятно, что мои слова не произвели на него впечатления. – Кроме того, в моей стране это считается преступлением. Не забывай, я вырос не здесь, а там, – прибавил я в свое оправдание.
– Если тебя пугают грязные слова, – сказал Джованни, – тогда непонятно, как тебе удалось дожить до твоих лет. Грязь ведь так и льется из людей. Они (большинство, по крайней мере) не пользуются грязными словами, только когда действительно рассказывают о чем-то грязном. – Он замолк, и мы переглянулись. Несмотря на всю его браваду, Джованни тоже выглядел испуганным. – Если твои соотечественники считают интимную жизнь преступлением, тем хуже для твоей страны. А что до девушки, ты разве пришит к ней? Когда она здесь, ты что, постоянно рядом? И не можешь пойти и выпить в одиночку? Или побродить по улицам, подумать? Говорят, американцы много размышляют. А когда ты думаешь или выпиваешь, можно тебе засмотреться на другую девушку, проходящую мимо? Или поднять глаза к небу и почувствовать, как бьется в твоих жилах кровь? Или все кончится, как только приедет Гелла? И тогда – ни выпить одному, ни посмотреть на других девушек, ни глаз поднять к небу? Так? Ответь мне.
– Я уже говорил тебе – мы не женаты. Видно, сегодня ты не способен меня понять.
– И все же ответь – когда Гелла здесь, ты встречаешься с другими людьми без нее?
– Конечно.
– И она заставляет тебя рассказывать, чем ты занимался, пока ее не было рядом?
Я вздохнул. Давно утратив контроль над беседой, я хотел только одного – поскорей ее закончить. И потому выпил коньяк разом, отчего обжег горло.
– Конечно, нет.
– Хорошо. Ты обаятельный, красивый и воспитанный молодой человек – не импотент, поэтому я вообще не понимаю, на что ей жаловаться и по какому поводу тебе волноваться. Устроить, mon cher, la vie pratique [76] Дорогой мой, жизнь целесообразно ( фр .).
очень просто – надо только постараться. – Джованни задумался. – Бывает, конечно, что жизнь идет кувырком, не спорю. Тогда нужно устроить все иначе. Но делать из этого английскую мелодраму – увольте. Тогда существование станет просто невыносимым. – Он налил себе коньяку и довольно улыбнулся, словно решил все мои проблемы. Улыбка была такой простодушной, что я не удержался и улыбнулся ему в ответ. Джованни нравилось думать, что он, в отличие от меня, поднаторел в жизни и теперь может учить меня уму-разуму. Для него это было важно: ведь в глубине души он подсознательно сознавал, что я – в глубине уже своей души – пытаюсь в меру сил ему сопротивляться.
Постепенно мы успокаивались, замолкали и наконец ложились спать. Днем просыпались часа в три-четыре, когда тусклые солнечные лучи ощупывали углы нашей странной захламленной комнаты. Вставали, умывались, брились, подталкивали друг друга, отпуская шуточки, и злились от неосознанного желания поскорее выбраться из этой комнаты. Затем торопливо выбегали на парижские улицы, где-нибудь по-быстрому перекусывали и расставались у входа в бар Гийома.
Оставшись один, я облегченно вздыхал, шел в кино, или просто бродил по городу, или возвращался домой и читал, или читал, сидя в парке или в кафе на веранде, болтал с посетителями или писал письма. Писал Гелле, умалчивая обо всем, или отцу, выпрашивая деньги. Но что бы я ни делал, во мне глубоко затаился другой «я», который холодел от ужаса, задумываясь о своей жизни.
Разбудив во мне желание, Джованни вызвал к жизни и прежние сомнения. Я осознал это однажды, когда провожал его на работу по бульвару Монпарнас. Мы купили килограмм вишен и ели ягоды по дороге. В тот день мы оба были жизнерадостны и по-детски беспечны и, должно быть, ужасно раздражали прохожих, видевших, как двое взрослых мужчин пытаются столкнуть друг друга с широкого тротуара и швыряются косточками, стараясь попасть в лицо. Я понимал, что такая ребячливость мне уже не по возрасту, но ощущение полного счастья только подливало масла в огонь – в тот момент я по-настоящему любил Джованни, который был особенно красив. Глядя на приятеля, я понимал, что во многом его красота зависит от меня и в моей власти делать это лицо лучше или хуже. И я был готов отдать все, чтоб только не утратить этой власти. Меня вдруг потянуло к нему с такой силой, какая бывает у реки, вырывающейся из ледяного плена. И в этот самый момент мимо нас прошел незнакомый молодой человек, показавшийся мне таким же прекрасным, как Джованни, и я испытал к нему те же чувства, что и к своему другу. Джованни перехватил мой взгляд, отчего захохотал еще громче. Я густо покраснел, а он продолжал смеяться, и тогда бульвар, солнечный свет, заливистый смех превратились в сцену из ночного кошмара. Я смотрел на деревья, на лучи света, пробивающиеся сквозь листву, и меня охватили боль и стыд, паника и ужас. В то же время я еле сдерживался, чтобы не посмотреть юноше вслед, и это увеличивало мое смятение. Зверь, разбуженный во мне Джованни, никогда теперь не успокоится, даже если я расстанусь со своим другом. Неужели тогда я, как и прочие из того же стана, буду оборачиваться вслед смазливым юношам и преследовать их по темным закоулкам?
Читать дальше