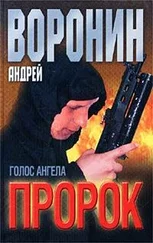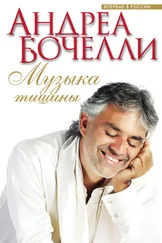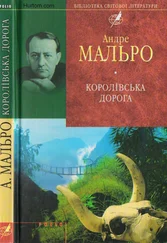Любой вымысел начинается с формулы: «Предположим, что…». « Христос » Монреале [98] «Христос» Монреале… – Изображение Христа на мозаичном панно в соборе Санта Мария Нуова в г. Монреале, в восьми километрах от Палермо (Сицилия) в нормандском стиле (XII в.). Ниже располагается фигура Богоматери с младенцем.
– не допущение, а утверждение, шартрский « Давид » – не допущение. « Встреча у Золотых ворот » Джотто – не допущение. Но Мадонна Липпи или Боттичелли начинают ими быть; « Мадонна в гроте » [99] «Мадонна в гроте» – монументальная алтарная композиция Леонардо да Винчи (1483–1486, Лувр).
– полностью допущение, « Распятие » Джотто – свидетельство; « Тайная вечеря » Леонардо – божественная новелла. Чтобы она ею стала, видимо, нужно было, чтобы религия перестала быть просто верой; чтобы её образы вошли в лимбы, чей свет принадлежит Возрождению, и, не утратив окончательно правды, они, эти образы, не совсем были вымыслом, но постепенно им становились…
Если в религиозном искусстве XIII века вымысел был робок, то в XVII веке религиозное искусство целиком стало вымыслом. В создании некоего вымышленного мира рисовальщик чувствовал себя мастером. Более точный, чем музыкант, по меньшей мере, равный трагическому поэту, он к тому же начинал рисовать изощрённо. Никто лучше его не мог представить образ женщины идеальной красоты, потому что он не столько её представлял, сколько производил; шлифовал, гармонизировал, идеализировал свой рисунок, и без того гармонический и идеализированный, и его искусство, даже техника, служили воображению в той же мере, в какой воображение служило искусству.
«Какая суетность – живопись: она вызывает восхищение сходством с вещами, чьи оригиналы вовсе не восхищают!» – эта фраза Паскаля – не заблуждение, это эстетика. Она, однако, требовала не столько живописать прекрасные предметы, сколько предметы воображаемые, которые были бы прекрасными, став реальными. И находила своё оправдание в стиле искусства древности: это был стиль, который объединял александрийскую культуру и римские копии нескольких великих афинских произведений, от которых он отличался радикальным образом. Бедного Микеланджело потряс « Лаокоон », но до того он не видел ни одного изображения Парфенона, да так и не увидел никогда… Этот стиль сводил оригиналы, созданные на протяжении пяти веков, в одно смехотворное, но могучее целое: благодаря ему античная техника имела историю, искусство же, однако, её не имело. Александрия символизировала Фемистокла. Отсюда – идея красоты, независимой от какой бы то ни было истории, у которой были свои модели, и дело было лишь в том, чтобы её осмыслять и отражать; отсюда идея некоего вечного стиля, по отношению к которому другие стили представляли всего лишь детство или упадок. Что общего между нашей концепцией греческого искусства и этим мифом?
Миф возник в тесной связи с христианским искусством, когда Юлий II, Микеланджело и, тем более, Рафаэль считали его своим союзником задолго до того, как сложилось мнение, что он их противник. Но вот мы познакомились с искусствами Древнего Востока, и хотя Фидий, как мы его себе представляем, является противоположностью художников христианского искусства или модернистов, в не меньшей степени он – противоположность скульпторов Египта, Ирана и Евфрата. Для многих из нас фундаментальное исследование Греции означает пересмотр мировоззрения. Философы, учившие жить, боги, менявшие свой лик вместе со статуями и покорные художникам как мечта, становившиеся скорее опорою человека, чем воплощением рока, изменили сам смысл искусства: несмотря на эволюцию форм, когда с течением веков в Египте всё больше обозначались неумолимое расположение светил и порядок загробной жизни, а в Ассирии – закон крови, искусство всего лишь иллюстрировало ответ, раз и навсегда данный судьбе каждой цивилизацией; настойчивый вопрос , который был самим голосом Греции, за какие-нибудь пятьдесят лет буквально уничтожил эту тибетскую литанию. Конец единственности мира в пользу его множественности, конец высшего идеала созерцания и тех психических состояний, когда человек полагает, что достиг абсолюта, согласуясь с космическими ритмами только для того, чтобы потеряться в их единстве. Греческое искусство первым представляется нам светским. Важнейшие чувства получили в нём человеческую остроту; экзальтация стала называться радостью. Ибо даже тёмные бездны оказались глубинной психологией; сакральный танец, в котором появляется эллинский образ, это образ человека, наконец освободившегося от своей судьбы.
Читать дальше