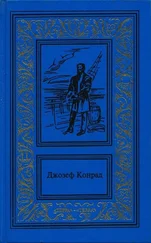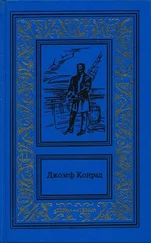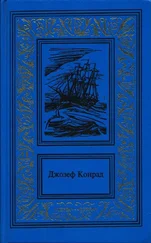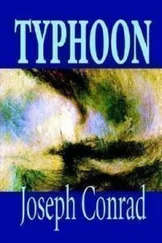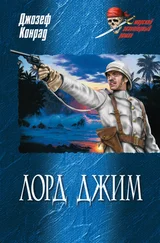Мы смотрели друг на друга, и тут он вздрогнул и состроил весьма странную гримасу.
«Ну ладно, мне пора, – выпалил он. – До встречи!»
Однако, шагнув на трап, Олмейер спохватился и пробурчал, что приглашает нас с капитаном вечером на ужин. Приглашение я принял. У меня просто не было выбора.
Люблю, когда почтенные мужи толкуют о свободе выбора, призывая не пренебрегать ею «по крайней мере в вопросах практических». Но где эта свобода? В практических вопросах?! Чушь! Как я мог отказаться от ужина с таким человеком? Я не отказался, потому что просто не мог отказаться. Любопытство, здоровое желание разнообразить рацион, банальная вежливость, разговоры и улыбки последних двадцати дней – каждая сторона моего существования здесь и сейчас взывала к тому, чтобы я принял это приглашение. Венцом всего было мое невежество – невежество, говорю я, и отсюда – неистребимая жажда знаний, без которых этот ребус остался бы неразгаданным. Отказаться было противоестественно, чистое безумие. Никто в здравом уме не отказался бы. Но если б я тогда не познакомился с Олмейером поближе, ручаюсь, с печатного станка не сошло бы ни единой моей строчки.
Я принял приглашение и до сих пор расплачиваюсь за свое здравомыслие. Обладатель единственной стаи гусей на Восточном побережье заострил мое перо на четырнадцать книг, изданных с тех пор. Гусей, выращенных им в неблагоприятных климатических условиях, было гораздо больше четырнадцати, и можно с уверенностью сказать, что количество написанных мной томов никогда не превысит поголовья его гусей. Я, однако, к этому и не стремлюсь, и каких бы мучений ни стоил мне тяжкий писательский труд, всегда вспоминаю Олмейера с благодарностью. Интересно, как бы он отреагировал, узнай он о своей роли? В этой жизни ответа уже не получить.
Но если мы и повстречаемся с ним в райских кущах – не могу представить его там иначе как в сопровождении гусей (стайка священных птиц Юпитера следует на почтительном расстоянии) – и он обратится ко мне в тиши того безмятежного края, где нет ни света, ни тьмы, ни звуков, ни безмолвия, а лишь бесконечное марево неосязаемой массы роящихся душ, пожалуй, я знаю, что сказать ему в ответ.
Вежливо выслушав его осторожные протесты, монотонность которых, разумеется, даже мало-мальски не должна потревожить вечность в ее торжественном оцепенении, – я сказал бы ему примерно следующее:
«Все верно, Олмейер, в мире дольнем я употребил твое имя в своих целях. Но ведь присвоил я совсем немного. Что в имени тебе, о Тень?! Если бренные страсти все еще одолевают тебя, угнетая дух твой (я как будто слышу нотки твоего земного голоса, Олмейер), тогда, умоляю, Тень, без промедления обратись к нашему прославленному собрату – тому, кто в мирском обличии поэта толковал о запахе розы – пусть он утешит тебя [9] Имеются в виду строчки Шекспира «Что в имени тебе» («Ромео и Джульетта»).
. Ты явился мне лишенный всякого покрова уважения, нагой пред кривыми ухмылками и пренебрежением бродячих торговцев, что судачили о тебе по всему архипелагу. Твое имя было достоянием всех ветров, оно качалось на волнах близ экватора. Я прикрыл его наготу королевской мантией из тропиков и попытался вместить в этот пустой звук саму суть отцовских страданий. И хоть ты и не требовал от меня этих подвигов, помни, что и тяжкий труд, и вся боль пришлись на мою долю. Ты еще был жив, Олмейер, а твой призрак уже преследовал меня. Считай это своеволием. Но вспомни свои жалобы: ты всегда говорил, что потерян для мира, и если бы не моя вера в твое существование, позволявшая тебе являться ко мне в Бессборо Гарденс, ты был бы потерян безнадежно. Ты заявляешь, что будь я способен на более беспристрастный и незамутненный взгляд, я смог бы лучше рассмотреть скрытое величие роковых сил, которые сопровождали-де твой земной путь в той крошечной точке света, что едва различима далеко, далеко под нами, там, где остались наши могилы. Несомненно! Но подумай, о жалобная Тень, возможно, это была не столько моя ошибка, сколько венец твоего невезения. Я верил в тебя как мог. Моя вера оказалась недостойна твоих добродетелей? Пусть будет так. Но ты всегда был неудачником, Олмейер. Ничто и никогда не считал ты достойным себя. И только твоя завидная последовательность и убежденность, с которой ты держался за эту претенциозную доктрину, сделала тебя в моих глазах таким живым и осязаемым».
Примерно такими словами, только в подобающих месту неизъяснимых выражениях, я готовлюсь умиротворить Олмейера в Обители Блаженных Теней, раз уж так вышло, что пути наши разошлись много лет назад и в этом мире нам уже не встретиться.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу