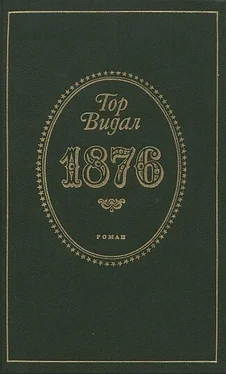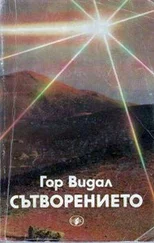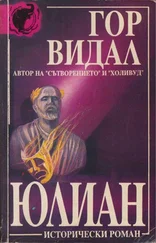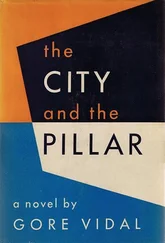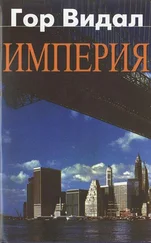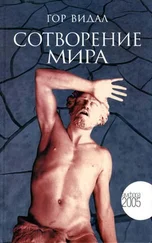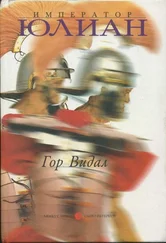Я держался твердо. Я отказался ехать на Юг. Но я согласился возобновить в сентябре мои еженедельные репортажи, поскольку последние восемь недель до президентских выборов имеют решающее значение. По крайней мере с точки зрения выяснения того, кто, что и у кого украл.
— Хейс на самом деле пристрелил свою мамашу? — Эта милая «деталь» задела меня за живое.
Джейми натянул на себя шлем. К нему подвели пони.
— Конечно.
— Насмерть?
— Нет. Он ранил эту старую стерву. Так и не научился стрелять. Промахнуться в свою собственную мамашу с шести футов! Какой же из него президент?
Джейми оседлал своего пони; я спросил его, в городе ли мадам Рестел.
— О, Чарли! Она потребовалась вам для подружки? Некая дамочка очутилась из-за вас в затруднительном положении?
— Нет, мой мальчик. Я хочу с ней поболтать о наших общих знакомых.
— Она уехала. В августе никого нет в городе, кроме первой американской сборной по игре в поло! — Он снова включился в игру, а я вернулся в отель «Пятая авеню».
Дениз в отличном расположении духа, она регулярно, дважды в день, принимает свои порошки, и паника больше не повторялась. Эмма с ней постоянно, а Сэнфорд все время в море на своей яхте. Я бы позволил себе осудить его поведение, если бы нам троим его отсутствие не было столь удобно.
Я надеялся в первый же вечер в Нью-Йорке зайти к мадам Рестел и доложить о состоянии ее пациентки, но вместо визита в это забавное ателье я провел нежданно прекрасный вечер с Джоном Эпгаром, который достал билеты на премьеру новой пьесы Брет Гарта «Двое из Сэнди-бара»; автор — один из многочисленных подражателей Марка Твена.
— Говорят, что пьеса не очень хороша, — извиняющимся тоном сказал Джон. — Однако в ней есть ужасно комичный персонаж — китаец.
Я начал рассказывать Джону о Китайском клубе в Париже, куда мы время от времени захаживали покурить опиум, но тут же осекся: в прессе в последнее время масса нападок на китайцев, чье пристрастие к опиуму всегда приводится как доказательство нежелательности предоставления им гражданства. Я всегда поражался, что нация, чье процветание всецело покоится на дешевом труде рабочих-иммигрантов, заражена непримиримой ксенофобией.
Ввиду неблагоприятных рецензий на пьесу Гарта публики было мало; к тому же конец августа не лучшее время для премьеры. В театре на Юнион-сквер такая духота, что получить удовольствие было бы трудно от любой пьесы, не говоря уже об этой. Джон рассказывает, что Гарт более всего известен своим стихотворением про язычника-китайца, он считает себя другом этой затравленной расы — пишет он скорее как ее враг.
Джон извинялся за пьесу, как будто сам ее написал. Я притворился, что нахожу ее занятной, да все это и было весьма забавно, особенно во время антракта, когда Джон показал мне Сэмюела JI. Клеменса, более известного под именем Марк Твен, в чьей небольшой жилистой фигуре сосредоточилось все, что я недолюбливаю в американской жизни; так я по крайней мере думал до сих пор.
— Хотите с ним познакомиться, сэр? — спросил Джон.
— Нет, — сказал я искренне. Я никогда особенно не любил общество профессиональных писателей; а то, что этот комедиант мюзик-холла и газетный фельетонист в высшей степени профессионален, не вызывает никакого сомнения. Однако мое «нет» совпало с появлением Марка Твена прямо перед нами, и его слова «никуда не годится» прозвучали эхом моего отридания. Он разговаривал с автором пьесы, который выглядел обескураженным, как и положено драматургу в такой ситуации.
— Добрый вечер, мистер Клеменс, — сказал Джон, когда Твен вдруг повернулся к нам, точно ища спасения от своего спутника.
— Добрый вечер, э-э…
— Эпгар, а это мистер Чарлз Скайлер…
— Чарлз Скермерхорн Скайлер?
Я поразился, обнаружив, что Твен разговаривает как стопроцентный коннектикутский янки.
Однако, входя «в роль», он начинает говорить как житель фронтира; делает он это искусно и правдоподобно, под стать профессиональному актеру.
— Ну что ж, охотно признаю, что это вроде бы как честь для меня, сэр, познакомиться с вами. — Твен тут же вошел в роль, радостно пожимая мне руку. Записываю для порядка, что у него жесткая шевелюра без проседи цвета рыжей лисы. Он невысок и нетучен. Выражение лица хитрого янки периода до Гражданской войны.
— Ваше признание меня радует, мистер Клеменс. — Как его называть, подумал я, Клеменс или Твен? Следуя безупречной манере Эпгара, я назвал его Клеменс.
Читать дальше