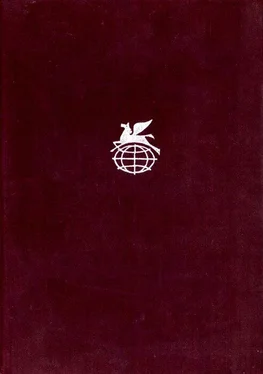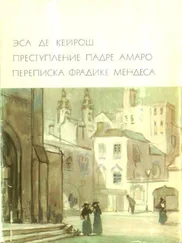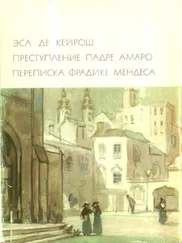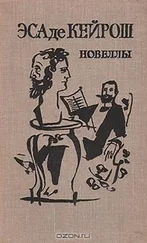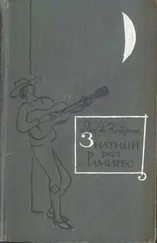– Во всяком случае, форма вашего стиха – это мрамор…
Тут дверь с шумом распахнулась, и на пороге появился Видигал.
– Все в порядке! – крикнул он. – Покойник свободен!
Министр финансов, любитель поэзии и красноречия, искренне заинтересовался мумией «коллеги» и обещал избавить ее от недостойного обложения по селедочному тарифу. Его превосходительство даже прибавил: «Нет, нет! Он пересечет границу беспрепятственно, со всеми почестями, подобающими классику!» Пентаур завтра же покинет таможню и въедет в город на извозчике!
Фрадике рассмеялся, услышав слово «классик» в применении к храмовому писцу времен Рамзеса, а торжествующий Видигал присел к роялю и сыграл бравурную партию из «Великой герцогини». [53]Тогда, внезапно охваченный печалью и сознанием своего ничтожества, я протянул руку за шляпой. Фрадике не стал меня удерживать, только немного проводил но коридору; его улыбка и рукопожатие были безупречно любезны. Очутившись на улице, я отвел душу возгласом: «Что за несносный педант!»
Да, педант, но совершенно нового рода, не похожий ни на кого из людей, с которыми мне до сих пор приходилось встречаться! И вечером, в переулке Гуарда-Мор, – правда, утаив неприличные восхваления Буало, чтобы ничем не испортить впечатления, – я описывал Ж. Тейшейре де Азеведо идеализированного Фрадике; все в нем было неотразимо: и мысли, и дар слова, и шелковый халат, и молочно-белое лицо с чертами молодого Лукреция, и духи, которыми он душился, и остроумие, и эрудиция, и вкус!
Ж. Тейшейра де Азеведо загорался медленно и не без копоти. Он сказал, что мой новый знакомый, видимо, большой ломака и актер. Однако согласился, что следует изучить поближе «театральный механизм, устроенный с такой роскошью».
Несколько дней спустя мы отправились вдвоем в отель «Центральный», опять в наемном экипаже. Я повязал на шею атласный галстук и воткнул в петлицу гардению. Ж. Тейшейраде Азеведо, которого называли Диогеном XIX века, держал в руках увесистую палку с железным наконечником; на голове у него была широкополая брагезская шляпа с замасленными полями, на плечах заношенная и пестревшая заплатами куртка, взятая у слуги, на ногах крестьянские деревянные башмаки. Все это было тщательно продумано, стоило немалых денег, внушало отвращение самому Тейшейре и имело единственную цель – эпатировать Фрадике Мендеса, гордо бросив в лицо этому скептику и баловню фортуны, от имени всех демократов и идеалистов, нравственное величие заплаты и суровую философию грязного пятна. Таковы были мы в 1867 году!
Все пропало даром – и моя гардения, и стоическое неряшество моего друга. Сеньор Фрадике Мендес (объявил нам портье) отбыл накануне из Португалии на пароходе, который ушел в Марокко за партией скота.
Прошло несколько лет. Я работал, путешествовал, научился лучше понимать людей и проникать в сущность явлений, утратил слепое поклонение форме и больше не перечитывал Бодлера. Маркос Видигал посредством «Сентябрьской революции» вознесся от музыкальных обозрений к бюрократическим высотам и отправлял государственную службу в Индии. Азиатские досуги, предоставленные короной, он снова посвящал концертине и истории музыки; таким образом, я лишился милого сердцу друга, унесенного с берегов Тэжо на берега Мандови, [54]и мне не от кого было узнать что-либо новое про автора «Лапидарий».
Но воспоминание об этом удивительном человеке не изгладилось из моей памяти… Напротив, время от времени я вдруг снова видел перед собой, видел ясно, осязательно-живо, молодое лицо с молочно-белой кожей, настойчивые, сверлящие глаза табачного цвета, губы, изогнутые скептической улыбкой, в которой сквозили двадцать веков литературы…
В 1871 году я путешествовал по Египту. Как-то раз я спускался по течению Нила, затопившего берега Мемфиса или, вернее, того места, где когда-то находился Мемфис; я плыл сквозь пальмовые рощи, стоявшие в воде и напоминавшие, на фоне лунной восточной ночи, длинные аркады монастырских галерей с их торжественно-печальной – отрешенностью от всего житейского. Все было безлюдно кругом, царила глубокая тишина мертвой земли, нарушаемая лишь размеренным плеском весел и протяжной песней лодочника… И вдруг я увидел (хотя ничто, казалось, не должно было вызвать этот образ), отчетливо увидел, что рядом с моей лодкой, разрезая вместе с нею полосы света и тени, плывет комната отеля «Центральный», с большим диваном слепяще-ярких расцветок; а на диване, в шелковом халате, дымя сигаретой, лежит Фрадике, и провозглашает бессмертие Буало! И сам я уже был не на Востоке, не в Мемфисе, не плыл по медленным волнам Нила; нет, я тоже сидел в этом номере, на стуле, обитом синим репсом, под люстрой в тюлевом чехле, перед окнами, выходившими на Тэжо, и слышал, как гремят внизу повозки, едущие к Арсеналу. Но я уже не испытывал прежней гнетущей робости. И пока мы таким образом плыли на веслах через фараоново царство к жилищу шейха Абу-Каира, я спорил с автором «Лапидарий» и высказывал в защиту Гюго и Бодлера тонкие, бесспорные суждения, которыми должен был сразить его в памятный августовский вечер. Араб-лодочник воспевал сады Дамаска, а я мысленно восклицал: «Но нельзя же не оценить в «Отверженных» высокую нравственную проповедь!»
Читать дальше