Я отказываюсь, и Маня обижается за Кувалду. Но я мечтаю о бескровной победе над Римкой. На худой конец, мне нужен не очень позорный мир…
Победы, однако, нет, нет и мира, и в дни, когда Маня учится, мне не с кем сказать слова. Глупо, наверное, но с недавних пор мне кажется, будто есть у меня еще один друг — нарисованный солдат. Нарисован он не очень — плакатная фигура, но глаза у него живые. Дважды в день прохожу я мимо электростанции, вдоль жарко дышащих, подрагивающих от напряжения стен. «Мой» солдат ждет меня, смотрит издали, неотступно, пристально. И потом, как ни оглянусь, провожает меня строгими глазами. Нет, он не жалеет меня, не сочувствует. Он требует.
Этого мне, наверное, и не хватало — внимания и спроса. Сама-то я очень жалела себя. Теперь мне хотелось сказать солдату: «Не беспокойся! Я им докажу, вот увидишь».
Но солдат, казалось, понимал меня без слов. Понимал, каково мне в зимнюю слякоть в окончательно развалившихся калошах. С вечно мокрыми ногами, мокрым носом. Но и он, похоже, считал, что я не должна пропускать уроков, как бы ни шумели бабушка и мама.
Незаметно он научил меня одной вещи. Научил, что важное складывается из мелочей. А значит, ничего нельзя спускать себе, ничего прощать. Нет, в этом не было нового, я слышала это от мамы, бабушки, учителей. Но их поучения только злили меня. А нарисованному солдату я вдруг поверила: да, так и надо — требовать с себя и требовать.
Я требовала как могла. Придвинув мамину коптилку, допоздна корпела над уроками. И сразу стала получать пятерки. Но и просто, а не ради отметок мне стало интересно, листая учебники, докапываться до сути, одолеть неразрешимую головоломку задачи, красиво Люськиными карандашами или акварелью отца изобразить сообщающиеся сосуды, инфузорию, носящую милое имя «туфелька»… Особенно нравилось мне вводить усовершенствования в свой почерк. Вынести, например, как мама, над строкой в виде лихой закорючки палочку у буквы «д»…
Довольная моим прилежанием, бабушка морщила в улыбке губы. И в награду принесла мне из детдомовской библиотеки «Трех мушкетеров».
В классе тоже были замечены мои старания. Как-то на уроке алгебры, стоя лицом к доске и с радостной уверенностью постукивая зажатым в кулаке куском известняка, я вдруг ощутила — спиной — затаенное внимание класса (и конечно, тут же напутала в преобразованиях).
Несмотря ни на что, это было неплохое время… Как гордилась я, когда вслед за Магой первая в классе решила контрольную по алгебре! И как тряслась, когда бежала выполнять комсомольское поручение — делать младшеклассникам доклад о Кровавом воскресенье 1905 года (они слушали меня открыв рот). А недавно Елизавета Ивановна во всех седьмых читала мое сочинение…
Солдат узнавал про мои успехи первым — раньше мамы и бабушки. Но и в дни триумфов, когда меня переполняло торжество, глаза его смотрели с прежней строгостью. Под их неподкупным взглядом становилось совестно… нет, противно! И остальную часть дороги я добросовестно ругала себя. Но изнутри, не поддаваясь, перла хвастливая радость…
Пора, пора было расправиться с этим и другими своими пороками — завистью, трусостью, враньем. Я решила вести дневник новым своим, «взрослым» почерком.
Вечерами, таясь от мамы и бабушки, записывала туда события дня и — дотошно, по пунктам — дела, намеченные на завтра. Но скоро мне стало скучно вести дневник: писать о себе оказалось нечего, событий, собственно, никаких, а дела до смешного мелкие. Ну, зарядка, ну, завтрак… школа… И дальше, после школы, такая же нуда.
Я решила взяться за Люську: пора бы и читать, не маленькая, скоро четыре года. Люська, однако, еще не умела требовать с себя. Запомнила букву «о» и решила, что с нее хватит. Она тыкала пальцем в страницу и кричала:
— Вот «о-о», еще «о-о», вот еще…
И начинала хныкать, когда ей показывали другие буквы.
Вырабатывать характер у Люськи мне не дала бабушка. Почему это именно бабушки считаются лучшими воспитателями?
А «мой» солдат? Он многому научил меня.
А еще помог мне понять Вовку. Чем-то они были похожи — солдат и Вовка. И у солдата был не очень-то удачный, но такой же непримиримый рот, а под каской, наверное, прятались точно такие уши…
Я давно не сердилась на Вовку. Он был прав — и тогда, с Маниным хлебным довеском, и теперь, вычеркнув все, что у нас было, за одно-единственное дрянное слово, слетевшее с моих губ. Да я и сама не прощу себе этого единственного раза… Как мне хотелось сказать об этом Вовке! Но он в упор не видел меня.
Читать дальше
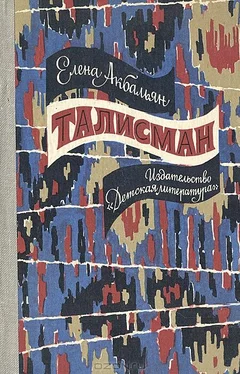





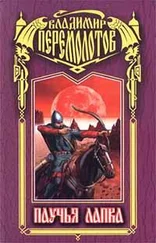

![Валентин Бабакин - Талисман для героя [СИ, самый полный вариант]](/books/410469/valentin-babakin-talisman-dlya-geroya-si-samyj-pol-thumb.webp)

