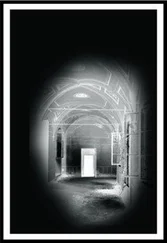И так полвека хитрят, пока березы и осины не увезут на дрова. А елин век вдвое дольше березкиного — сто лет.
Удивляются потом люди: давно ли березовый лес был, а теперь, смотри-ка, чисто еловый, темень-теменью.
Вот ведь как: дай бог ногу поставить, а весь-то я сам влезу.
Под вечер Сашок притащил в латаной дерюжке ворох лесного сена. Пахло оно чебрецом, земляникой, солнцем, и мы устроили из него чудесные постели.
Долго не могли уснуть, шептались о всяких разностях, видели, как в открытой дверце чердака зябко вздрагивали, медленно падали к земле белые звезды…
Растолкала нас Семеновна по-летнему поздно, часов в семь. Ноги ее были мокрыми от росы, и грибы в корзине тоже были влажные.
— Эх вы-ы! — покачала она головой. — Кто же так долго спит? Радость-то проспали?
И мы увидели эту радость в ее смеющихся морщинках: в них Семеновна ее из леса принесла — нам показать.

Ветерок неслышно тронул белую прозрачность одуванчиков. Легко взмыли в блеклую синь неба на своих зонтиках точки-семена — искать новые поляны, где еще не поселились желтоголовые братья.
Кивали им вслед лысеющими головами одуванчики-старики, тоскливо, по-человечьи.
— Жарко бедняжкам, раздеваются, — сказала Семеновна. — Замечайте, как сбросили шапки — лето началось.
Ну и упрямец же был этот малыш!
Когда, вконец уж выбившись из сил, срываясь, перевертываясь, опять взбирался на вершину, ветер толкал его в грудь, и малыш кубарем скатывался вниз. Но тут же, не передохнув, муравей снова карабкался к такой трудной для него вершине.
И ветер снова сбрасывал его вниз…
Жаль стало мне беднягу, хотя я вовсе не был уверен, что малыш нуждается в помощи. Но, рассудив, все же помог ему сладить с ветром.
Вы думаете, он оглянулся, поблагодарил? Скорей побежал! Я не обиделся на него, видел, что малышу было очень некогда, впереди у него большая, ему только известная дорога. Наверное, его ждали очень уж важные дела за этим песчаным бугорком.
Согласитесь, как часто многим из нас не хватает в жизни именно такого вот упорства.


С необъяснимым душевным трепетом входишь в еще сонный утренний лес, невольно умеряешь шаги.
Все горит, все сверкает: царство росы!
Лесная земля еще влажная, не слышна под ногой, и позади остается темный, расплывчатый след. Мокрые травинки — как маленькие арки — в бусах разноцветных капель.
Крупная, будто жемчуг, роса блестит на фланелевых манжетках медвежьего уха.
Тишина. Изредка лишь прорежет ее удивительно чистый голос проснувшейся птицы.
Куда ни глянешь — глазенки росы, кажется, следят за тобой из листьев земляники, из-за пней, отовсюду, куда заглянуло розовое солнце.
Роса и тишина держатся в лесу час, другой. Потом все это вдруг исчезает, все в лесу становится другим, все не так, как в таинственное росное утро: сухо, душно, пьяно от запахов смолы и муравьиных горок.
Роса исчезла.
Странное дело! Когда бабка Федосья, самая удачливая в Заборове ягодница, важно шествовала деревней с первым лукошком земляники, все, без уговора, спешили в Овраги, хотя было до них версты на две дальше, чем до ближних полян, где земляники не меньше.
Женщины приносили оттуда, как и Федосья, полные лукошки на редкость зрелых и крупных ягод. Туда же, в Овраги, поспешил и я, и хождение было удачным.
Перед тем как идти обратно, я прилег отдохнуть, полюбоваться березами. И вдруг я понял, почему земляника в Оврагах зарумянилась раньше, чем на других полянах, причем одинаково со всех сторон.
Секрет заключался в здешнем освещении: мягком, ровном, без теней. Светя на поляну, солнце тысячекратно дробилось, отражаясь от белых березкиных стволов, превращалось в этот ровный, без теней, свет, заглядывало в самые потаенные уголки, грело каждую ягодку.

На перевале мая, когда все вокруг в нежной зелени и, кажется, наконец-то настала теплынь, вдруг начинают дуть зябкие ветры и на весеннюю землю снова приходит холод.
Читать дальше