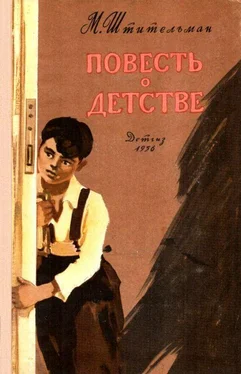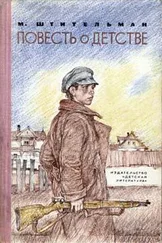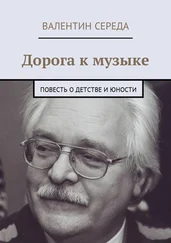Вот такая бабушка женщина…
* * *
У реки было так тихо и небо было таким высоким и прозрачно голубым, что Семе вдруг стало хорошо. Он быстро сбросил одежду и вошел в мягкую, теплую воду. Пройдя несколько шагни, он окунулся с головой, поплыл и выпрыгнул у зеленого островка посреди реки. Три грустные плакучие ивы, печально опустив ветви, глядели в воду. Они росли почти рядышком, так тесно прижавшись друг к другу, что Семе показалось, будто им холодно. Но было тепло. Ветерок, вкрадчивый и тихий, робко шевелил листву.
Сема лег на спину и, подложив руки под голову, закрыл глаза. С мокрых волос его медленно скатывались капли, он не замечал их и лежал так, ни о чем не думая. Ему просто было хорошо. И грязные, соленые кожи, и едкий запах краски, и мутная коричневая вода, стекавшая по желобку в цехе, и бабушка с ее докучливым обедом — все забылось. Ничего на свете не было, кроме этой тихой реки, и хотя в ней купали тощих усталых коней и босые женщины на берегу били о катки только что выстиранное белье, Сема любил свою родную речку, вот такую, какая она есть — маленькая, смешная речка Чернушка.
Так он лежал на воде и мечтал, что вот хорошо было бы, если б Чернушка впадала в какой-нибудь порядочный океан и Сема поплыл бы по ней и увидел живые, настоящие корабли и пароходы, живые, настоящие города и узнал бы, что там. Он понимал, что глупо мечтать об этом, что завтра все равно нужно идти на работу и Чернушка вовсе никуда не впадает, а попросту высыхает к середине лета… Но почему не помечтать — это ж ничего не стоит… «Что, тебе жалко?» — обратился он к самому себе и поплыл обратно к берегу.
В реке на сваях стоит серый деревянный дом, большой и заглохший, и какие-то зеленые и желтые речные травы взбираются на его стены. Здесь была когда-то водяная мельница, а сейчас хорошо, поднявшись на старую крышу, смотреть вокруг — вот конец Чернушки, вот соседнее местечко Райгородок, вот помещичья усадьба… Рядом с мельницей — маленькая кузня: почерневшая калитка с подковкой, прибитой на счастье; старый, слепнущий кузнец склонился над ведром, и ветер доносит к Семе шипение стынущего в воде раскаленного куска железа, запах речной сырости и дегтя.
Сема кладет на голые колени штаны и, задумчиво глядя на кузнеца, напевает песенку, услышанную на фабрике:
Честное счастье по воде плывет,
За ним надо гнаться.
Боже мой, горько мне
На чужой стороне, у чужого стола.
Слуха у Семы нет никакого, но что делать, если иногда человеку очень хочется петь? И Сема продолжает:
Моя хозяйка говорит:
Ешь, не стесняйся,
А в сердце она думает —
К хлебу не прикасайся.
Если б моя мать знала,
Что сплю я без подушки…
Боже мой, горько мне
У чужого стола, на чужой стороне…
Поет Старый Нос, и очень ему жалко этого мальчика без подушки. Он уже собрался в третий раз затянуть сначала свою песню, но вдруг кто-то тронул его за плечо. Сема поднял голову — рядом с ним стоял Пейся в ярко-розовой рубашке навыпуск.
Внимательно оглядев Пейсю, Сема спросил:
— Скажи мне, пожалуйста, зачем ты напялил на себя эту розовую наволочку?
Пейся недоуменно пожал плечами:
— Во-первых, это рубашка, а во-вторых, я бы не сказал, что очень красиво сидеть без штанов.
Они помолчали. Пейся по-прежнему служил у Гозмана, по-прежнему весело врал, но многое изменилось в нем: надежды не оправдались, хозяйская милость исчезла, приказчиком его делать не торопились. Совсем недавно Сема помирился с Пейсей, и прежде всего он заметил, что Пейся всем говорит «вы». И Семе. Отчего взбрело это ему в голову, никто понятия не имеет. Но, если он хочет на «вы», пусть будет на «вы».
— Так что вы скажете? — улыбаясь, спросил Сема, натягивая штаны.
— Что я скажу? — переспросил Пейся. — Я скажу, что я только что подслушал интересный разговор.
Пейся умолк, ожидая, что Сема сейчас начнет просить его и умолять: расскажи, ради бога, какой это был разговор? Но Старый Нос решил не доставлять Вруну такого удовольствия и, хитро посматривая на Пейсю, молчал. Пейся кашлянул, оправил рубашку и задумчиво повторил:
— Да-а! Интересный разговор…
Сема продолжал молчать; подсучив штаны, он принялся рассматривать свои ноги с таким живым и острым любопытством, как будто увидел их впервые.
— Мизинец! — удивленно воскликнул он. — Посмотри, какой он скрюченный, ну точно старенькая старушка. Когда я был маленький, большой палец у меня назывался Мотл, а мизинец — Двойра.
Читать дальше